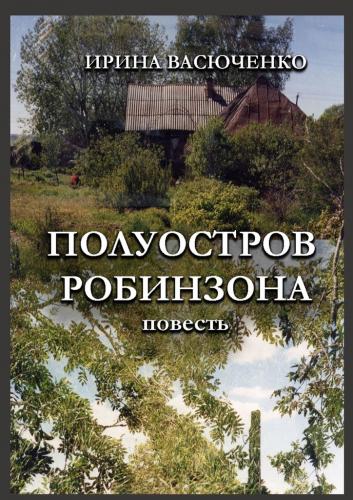Предложение молочницы вселяло надежду. Видимо, это значило, что Матрена вступила на путь торговли откровенно. Устои как-никак размываются помаленьку, авось и она, по здешней терминологии, «совсем стыд потеряла». Значит, обойдемся без ритуальных плясок. Благодать!
Тягостное подозрение овладело мной, как только Матрена стала пересыпать картошку ко мне в мешок. Чересчур она умильно приговаривала, чтобы-де я, ежели понадобится, еще приходила, кому-кому, а уж мне отказа не будет. Такие галантные присловья не приняты в момент совершения сделки.
Предчувствие меня не обмануло: денег старуха не взяла. Если ее послушать, после неимоверной чуткости и доброты душевной, которые я к ней проявляла, взять их или даже только об этом подумать нет никакой возможности. Не зная за собой, хоть тресни, не только особых, но даже мало-мальских заслуг, я поняла, что должна предпринять ответный ход. А именно – сбегать в магазинчик, купить, что ли, коробку конфет и всучить ее бабе Матрене. Действовать в таких случаях надо подобно предприимчивому кавалеру осьмнадцатого века, коему, как рекомендовала одна игривая книжка, следует побуждать даму к любовным утехам, «не обращая внимания на восклицание «Ах!» или притворный вопль «Увы!»
Я недооценивала противницу. Похоже, мне не удастся усмирить ее целомудренное негодование. Еще немного, и я отступлю с позором, унося под мышкой слегка помятую в нашей борьбе коробку. А ведь старуха этого не хочет. От меня требуется обыграть ситуацию так, чтобы она могла уступить, по своим понятиям, с честью. Проклятая духота! Не могу… Голова совершенно не варит.
– Матрена Тихоновна, я не уйду. Слово даю! Мы еще поговорим… Только откройте дверь…
– Ну, смотри, девк, не обмани!
Уф! Глоток ветра, пусть и жаркого, и сметающего пыль с горячего асфальта шоссе, но ветра все же, а не спертого воздуха прихожей, настоянного на издыхающей герани, возвращает меня к жизни. Самое трудное позади. Мы сейчас посудачим, чтобы все было комильфо, – и я уйду без коробки.
Баба Матрена тоже это понимает. С той минуты, как дверь открылась, ее дальнейшие протесты приобретают чисто формальный характер и звучат уже не страстно, а элегически:
– Забери ты свои конфеты, Шура, разве мне о конфетах надо думать? Ничто теперь не в радость, ничего не хочу. Помирать мне надо, хватит, нагоревалась.
На этом месте разговора Матрена Тихоновна, как всегда, принимается плакать, вспоминать погибшую внучку, «Ксюшеньку, ласточку мою», и сетовать, что смерть о ней забыла. Не знаю никого, кто бы столько толковал о своей близкой кончине. Проходят годы, умирают кузякинские старики и старухи, вот и обеих наших соседок – бабы Кати и бабы Дуни – нет больше, а баба Матрена, которая всех болезненнее, несчастливее, живет и только плачет, плачет.
– Куда нам спешить, Матрена Тихоновна? Туда никто не опаздывает.
– Нет, девк,