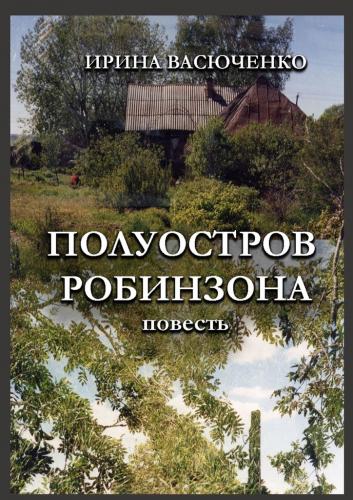Луна, которой предстоит, потакая разнузданной старомодности авторских вкусов, частенько появляться над местом действия этой повести, перекосившись, мчалась над полем. Раздраженно продиралась сквозь серые рваные облака. Более чем сомнительным сиянием намечала контуры недальнего бора, чуть видную дорогу, заросли полыни и гранитные валуны у обочины, покатые холмы свалки, фигуру в длинном, метущем траву плаще. А деревню даже и не намечала. Затянутая мраком, с потухшими окошками, деревня отсутствовала. Утонула, незримая и незрячая. Никто не видел, какая странная шастает по непаханому полю фигура, какая черная бежит за ней собака, какое мультипликационное привидение зыбко пристроилось на плече белым треугольником, посверкивая холодными гляделками. А увидели бы, небось, сразу бы смекнули, почему так бесплодна тощая пыльная земля и небо опять третью неделю не посылает ни капли.
– Я знаю, лес ночной далеко вкруг меня простер задумчиво свои немые своды…
Еще и бормочет! Колдует! Вот где страсти-то!
Это женщина. Она молода и дивно, таинственно хороша. Ей весело ночью посреди кочковатого, бурьяном и кустарником зарастающего поля. Так сладко и так грустно, будто – да почему, собственно, «будто»? – она не кто-нибудь, а владетельница этих ветреных и в темноте тоже прекрасных пространств, говорящих, каждым облаком, бормотаньем прошлогоднего бурьяна, камнем на дороге все время говорящих с ней. Их шепот – такая музыка, что с ума сойдешь от счастья. Она бездомна, потому что кров ей не нужен. Она…
Нет, все же повернула, потопала туда, откуда смотрит в ночь последний огонек. Подобрав полы плаща, шагнула через поваленный забор. Нащупала ржавую скобу, заменяющую дверную ручку. С грохотом споткнувшись о мусорное ведро, вошла в единственный на всю деревню домишко с горящим окном. Люстра, смолоду блиставшая тремя пластмассовыми рожками, а последние десять лет обходящаяся одним, тускловато, но не в пример луне вразумительно осветила вошедшую. Это я. В миру Александра Николаевна Гирник. По-здешнему тетка Саша. Дачница плотного телосложения, пятидесяти с гаком лет с физиономией, на которой так и норовят проступить добродетели честной рабочей лошади. Широченный не по росту плащ, эксплуатация коего допустима только в потемках, придает мне форму разлапистой незавидных размеров копны. На плече, вцепившись когтями в погончик, сидит крошечная черная кошка с белым треугольным жабо в форме мультипризрака и желтыми сердитыми глазами. Ее зовут Аспазия, фамильярно – Спазма. Она не одобряет моих ночных прогулок, но увязывается за мной, опасаясь, что без присмотра я собьюсь с пути и могу не вернуться. По ее понятиям, я утомительно глупа.
– Когда-нибудь ты переломаешь себе ноги на здешних колдобинах.
А это муж. Ученый и взъерошенный. Для местных – дядя Гаврик, то бишь Гавриил Абрамович Симкер. Любитель старых книг, пауков и камней. Не драгоценных – на эти ему плевать, а тех серых и розовых гранитных глыб, в прожилках и зализанных столетиями выбоинах, что разбросаны вдоль здешних дорог. По части переламывания конечностей они куда страшней рытвин, оставленных гусеницами танков, которые несколько десятилетий притворялись здесь тракторами. Но Гаврила не скажет плохого слова о камне.
Свою реплику, не блещущую новизной, он подает, не отрывая глаз от монитора. Он тоже не ждет добра от моих томных блужданий. Но не настолько, чтобы пойти со мной. Ради этого пришлось бы прервать ночную вредную для здоровья работу, а он, чего доброго, смакует ее так же греховно, как я – свои вылазки. И, смею надеяться, больше Спазмы полагается на мое благоразумие. Но я не отвечаю ему взаимностью.
– Это только возможно. А то, что ты доконаешь себе глаза, по восемнадцать часов торча за компьютером, неизбежно.
– Или какой-нибудь пьяный…
– Все спят. И со мной Мадам.
– Которая давным-давно скрылась в неизвестном направлении.
Что верно, то верно. Никто из домочадцев не печется о моей безопасности так мало, как моя собака. На свой манер она тоже владеет полями, вот и сейчас где-то вдали ее торжествующий лай оповещает цепных псов, что она свободна, ей принадлежит мироздание, а им – только клочок мертвой земли, вытоптанный перед будкой. Она вернется на рассвете, когда пастух с грозными воплями погонит мимо дома стадо. Мадам нервна, ее приводят в смятение истошные матюги, щелканье кнута, коллективный топот коровьих копыт. Прибежит, как миленькая, и разыграет перед слипающимися ото сна мутными очами покинутой хозяйки сцену душераздирающего раскаяния.
Засим следует загадочная, но мало аппетитная фраза:
– А ты вытащил лягву из колеса? Небось, забыл?
– Отнюдь. Вон она. На подоконнике.
Кощей, если верить преданию, не принял достаточных мер предосторожности, когда прятал свою смерть. Да послужит аллитерация на «пр» напоминанием о его прискорбном провале. Мы с Гаврилой, когда что-нибудь хотим уберечь, прибегаем к колесу. Оно, громадное, принадлежало какому-то великанскому средству передвижения, а ныне упокоилось в нашем сарае под грудой изъеденных жучком досок, дырявых ведер и прочей дряни,