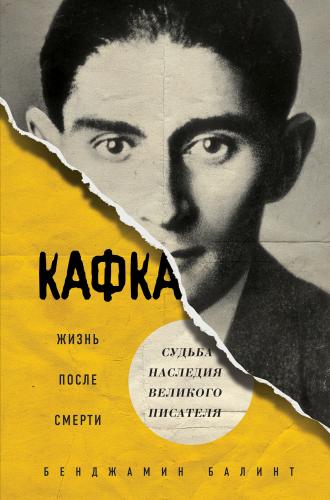В бальном зале отеля 25-летний Макс Брод наслаждался прелюдией к вечеру: здесь 16-летняя актриса Лиа Розен пленительным голосом читала стихи Гуго Гофмансталя (которому Райнер Мария Рильке представил её в Вене в ноябре 1907 года). Она также спела «Колыбельную для Мириам» (Schlaflied für Mirjam) Рихарда Бер-Гофмана, в которой были такие строки:
Was ich gewonnen gräbt man mit mir ein.
Keiner kann Keinem ein Erbe hier sein.
Всё, что обрёл, – похоронят со мной,
Нет нам наследников в жизни земной4.
У вышедшего на сцену Бубера глаза сверкали умом и страстью. Брод пришёл в восторг от риторики мудреца, призывавшего к самоопределению евреев и их духовному обновлению. Что значит называть себя евреями? – бросал в зал Бубер. – И какие требования предъявляет еврейство к нашей внутренней жизни?
Встреча с Бубером перевернула отношение Брода к еврейской жизни и, как следствие, к Кафке и его сочинениям.
Брод позже говорил, что он пришёл на эту лекцию как «гость и оппонент», а ушёл с неё сионистом. До этого он считал, что не испытывал никакого самоненавистничества по отношению к евреям, но и не чувствовал особой еврейской гордости. Встреча с Бубером перевернула отношение Брода к еврейской жизни и, как следствие, к Кафке и его сочинениям. Здесь началось то, что Брод назвал своей «борьбой с иудаизмом и за иудаизм». Лекции Бубера побудили Брода сформулировать для себя то, что он и многие другие немецкоязычные евреи смутно чувствовали: их попытки отождествлять себя с deutscher Geist, немецким духом, терпели неудачу. И по причине этой неудачи Брода всё больше стала занимать проблема, которую Роберт Вельч мог бы назвать die persoenliche Judenfrage, «личным еврейским вопросом». Брод «перешёл от почти исключительной и преднамеренной озабоченности эстетическими аспектами к полной самоидентификации с еврейским народом», – отмечал Вельч5.
Сам этот вопрос возникал из ощущения странности. «Немецкий еврей в чешской Праге был, можно сказать, воплощением странности и инаковости, – писал Павел Эйснер. – Он был врагом народа без собственно народа». Некоторые пражские евреи бежали от этой странности бытия в места, где, как они надеялись, их «пороговость» могла бы исчезнуть: в Вену (Франц Верфель), в Берлин (Вилли Хаас) или в Америку (например, родители Луи Брандеса). Другие увлекались радикальным социализмом (как Эгон Эрвин Киш, который заявлял, что «моя родина – это рабочий класс») или принимали крещение. Некоторые из пражских евреев воспринимали сионизм больше как модный стиль (Mode-Zionismus), нежели как фундаментальную идею. Другие же, такие как Макс Брод, отнеслись к сионизму предельно серьёзно.
Ходила