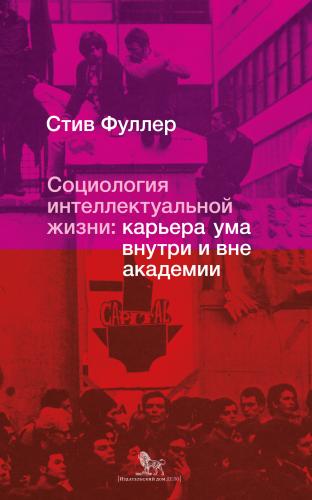Ключевой момент креационистского проекта состоит в том, что феномены, ассоциирующиеся с развитием жизни на земле (свидетельства палеонтологии, морфологии и т. д.) должны предъявляться отдельно от концептуального аппарата неодарвинистского эволюционного синтеза. В результате учебники по биологии должны стать больше похожими на учебники по социологии, где объяснительные схемы вводятся только после того, как представлены богатые описания феноменов. Студенты при этом помещаются в положение оценки конкурирующих схем, каждая из которых может иметь свои преимущества и недостатки в применении к полному спектру свидетельств (Meyer et al. 2007). Согласно креационистскому проекту, эти альтернативные схемы должны быть позаимствованы из скрытого прошлого самой биологии: библейского буквализма, космического перфекционизма, теории разумного замысла, ламаркизма и т. д. (Fuller 2007c, 2008).
И сторонники, и противники креационизма соглашаются, что такое риторическое нововведение подорвет педагогическую гегемонию дарвиновской эволюции путем естественного отбора. Теории, прежде считавшиеся опровергнутыми, получат новое право на жизнь, когда студентам придется самостоятельно определять истинную ценность дарвинизма по сравнению с теми теориями, которые могли бы возникнуть, если бы одна из альтернатив была соответствующим образом разработана. Присутствие этих исторических альтернатив также ярче высветило бы неименные концептуальные и эмпирические затруднения дарвинизма, которые обычно затемняются его статусом парадигмы в биологии. Для биологии такой проект может показаться радикальным, но он хорошо знаком преподавателям социологии, для которых ни одна теория прошлого не является полностью отброшенной. Ведь если доминирующее положение в научном исследовании социальной жизни в XXI веке займет, допустим, социобиология, нетрудно представить себе, что сами социологи