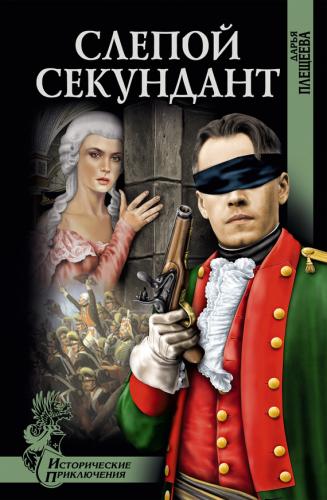Еремей застал теток в гостиной – они ждали в гости приятельниц. Главным угощением была новая находка – безрукая баба, шившая пальцами ног. Рядом с этаким сокровищем слепота родственника показалась теткам явлением незначительным. Но дядька объяснил, что на докторов нужны деньги, и тетки расщедрились – дали пятьсот рублей.
По дороге к постоялому двору Еремей сочинял речь. Нужно было растолковать питомцу, почему он пропадал так долго, и Еремей, вспоминая случайно услышанные подробности убийства Акиньшина, выстраивал их в связный рассказ, чтобы возникло впечатление, будто он проболтался в Измайловском полку очень долго.
Андрей, узнав печальную новость, произнес одно-единственное слово:
– Так…
– Надо бы отсюда убираться, – сказал Еремей. – Если за господином Акиньшиным следили, то знали, что он у тебя бывал, Андрей Ильич, и про девку Дуняшку тоже, поди, все знали. Я так думаю, ехать коли не в Москву, так хоть во Псков. Эти сукины сыны ни черта не боятся – прямо в полку ведь господина Акиньшина закололи.
Андрей молчал довольно долго. Дядька ждал разумного ответа, а ответ был «нет!». Еремей понимал – отступление для питомца попросту унизительно. Доводы рассудка сами по себе, а упрямый норов и почти безумное понятие о чести – сами по себе. Значит, нужно дать Андрею время успокоиться.
На то, чтобы Андрей от простейших ответов «да», «нет», «не хочу» перешел к сложным, вроде «убери тарелку», ушло двое суток. Все это время он почти не спал – только сидел неподвижно, лицом к стене. В конце концов дядька зарядил пистолеты и сел рядом с Андреем, выложив вороненые стволы на колени. Если бы кто сунулся в комнату без условного стука – тут же и получил бы пулю в брюхо.
Тимошке Еремей приказал стеречь Фофаню, который неведомо зачем понадобился барину, и бегать в трактир за горячей пищей. В чулане, куда, уговорившись с Семеном Моисеевым, заперли вора, было крошечное окошечко, и Еремей, умом понимая, что человеку в него не пропихнуться, все же беспокоился, как бы не подвести питомца. Поэтому бедный Тимошка и ночью проверял узника.
Андрей думал. Мысль гуляла по безмятежному прошлому, из памяти добывались ласковые Катенькины слова, ее влюбленные взоры, строился светлый дворец, обитель счастья, и рушился в беспросветный мрак. Там, во мраке, десятый, двадцатый и сороковой раз подряд оглушенная болью душа собиралась с силами и начинала выползать, цепляясь за остатки воспоминаний, подтверждающих ее стойкость в беде.
Положение было такое, что отступление – не позор: