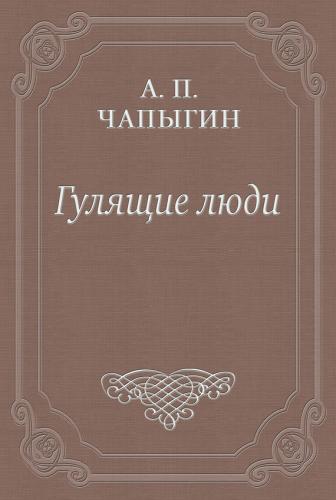– Ныне сие пресечем! Я боярину много писывал, да вот нынче лишь до конца все доведу… Глумился в дому своем, я и лаял его… Хорош тем, что породой не кичлив и на брань не сердится… Таких неспесивых бояр мало.
– Подпись надобна, хозяин!
– Подпишу и еще помыслю – припишу. О Никоне припишу. Поклепы одно, Никон пуще – Никона он ненавидит… Никон же меня и примечает мало, его я почитаю, что уложение государево царю в глаза лает – зовет «проклятою и беззаконною книгою». Уложение меня разорило – в гроб сведет. И за старину идет Никон по-иному, чем Аввакум и наш Павел Коломенской… Ну, будет! Идем вкусить чего и водки выпить.
Когда выпили, Бегичев, еще худо проспавшийся со вчерашнего, быстро захмелев, кричал:
– Право, бог тебя послал! Дай поцелуемся, Иван… – Царапая бородой, торчащей клином вперед, Бегичев полез целоваться.
Провожая изографа-борзописца, говорил, пуще кричал:
– Ведаешь немецкий язык, уломаем черта маюра, Никифора кабацкого голову, пущай лишь отчитается с приказом Большой приход[147], – сместим, сяду головой, а ты, друг Иван, со мной безотлучно будешь! И такие дела! Эх, только бы бог пособил, да будет его воля! Кому писали – с глумом говорил: «Садись-де кабацким головой, место веселое!» Сам, хитрец, ведал, что сести не можно – маюра с солдаты ведал и беспорядков не унял Никона для, чтоб государю лишнее поклепать… Маюра в руки заберем, тогда и сести можно!
Каменев ушел довольный. У него на уме было иное…
Сенька, придя в Коломенское и зная, что слухи розыска по Тимошке вернее всего добыть в кабаках, пошел на кружечный двор. По двору кружечного бродили без команды пьяные датошные люди, солдаты и пешие рейтары. Если заходил на двор питух, то окружали его и, вынув из-под полы епанчи фляги, предлагали купить вино чарками. Сеньку также окружили, он отговорился:
– Не за вином иду, послан по делу к целовальникам!
– Ежели лжешь, то наших все едино не миновать!
Среди кружечного двора Сенька избрал самую большую питейную избу, полуразрушенным крыльцом вошел.
В избе стоял густой дым от табаку. Солдаты темной массой облепили длинный питейный стол. Все они курили трубки, редкие пили табак из рога. Сенька вынул свой рог, стал тоже пить табак, чтоб не кашлять от вони едкого табачного и сивушного воздуха. Стены заплеваны, они черны от дыма, сруб избы курной. Большое дымовое окно вверху выдвинуто, из него на питейный стол, занятый солдатами, падали скупые лучи тусклого дня. На столе солдаты играли в карты. В глубине сруба за большой дубовой стойкой четыре целовальника в сермяжных кафтанах, запоясанных кушаками, – за кушаками целовальников по два пистолета. Целовальники хмуры и бородаты.
Служителей Сенька увидал много, они вооружены: кто с топором, всунутым спереди за кушак, у иного и пистоль торчал. Служители вертелись за спинами целовальников около поставов больших с полками, где стояла винная посуда мелкая и лежали калачи. На каждом поставе вверху черная