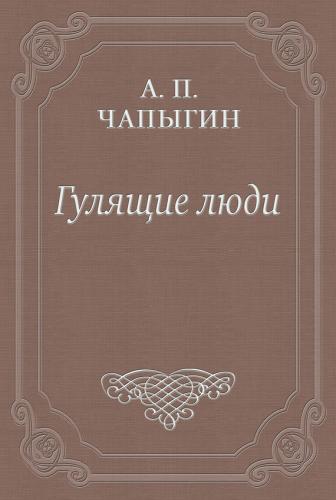Стойка кабака против дверей, за стойкой в одну ступень рундук целовальничий, с него было видно далеко. Анкудим вгляделся, узнал стоящего на дворе Сеньку, закричал:
– Праведники, пиющие вино мое! Влеките ко мне на питейный помост сына моего духовного, ибо он восстал из мертвых в трет день по писанию, и тому, кой от нас вознесется на небо, подобает пити и в ангельских чинах быти! Того самого, в коричневом армяке-е!
На Сеньку потянулись руки пьяных, но, растолкав питухов, Сенька ушел за ворота.
Пробираясь в Стрелецкую, Сенька видел на крестцах улиц горевшие костры, в них божедомы сжигали платье умерших от моровой язвы.
«Сегодня постой сыщу дома… завтра надо узнать место, где нет загородок, – в Коломну пойти по Тимошку…» – думал он.
Деревянные дома, рубленные в лапу, крытые берестой и лишь редкие – тесом, гнилые столбы на перекрестках, верх таких столбов домиком с кровлей, в нем за рваной слюдой икона. Небо тусклое, как из овчин серых овец, небо без единого просвета, а в нем стаи воронья с картавым граем и воронье на заборах, а на перекрестках же недально от столбов с иконами огни, и у огней зяблые руки и лица нищих из божьего дома…
На сердце у Сеньки от неведомого будущего муть и тупая боль.
Вспомнились слова Ивана-дьякона: «Искал, сыне, я волю, да воля без куска хлеба завела в неволю».
– А, нет! Из неволи иду, туга моя оттого, что у чужих пригрелся… надо искать своих… В кинутой жисти один лишь Иван свой – его жаль…
От костров по улицам шел тряпичный смрад. Сеньке стало казаться, что и грязь густая, черная пахла тем же смрадом.
В одном месте, близ Москворецкого моста, дворянин-жилец[128] в рыжем бархатном кафтане и трое его холопов стащили с лошади какого-то горожанина, избивали плетьми, приговаривая:
– Ты, собачий сын, шлюхин выкидыш, и перед митрополитом чинил бы свое воровство…
Горожанин, встретясь, не слез с лошади и шапки не снял.
Сенька скрозь кафтан потрогал шестопер, но не вступился за избитого: «Надо быть мене знаему и видиму столь же…»
Свой дом стрелецкий сын нашел пустым, зловеще молчаливым, с раскрытыми пустыми хлевами и конюшнями.
Он кинулся в клеть – никого. Взбежал по лестнице в горницу и у порога распахнутой настежь двери остановился: в большом углу под образами, где горели три восковые свечи, лежали рядом отец Лазарь и мать Секлетея, оба закинутые одним одеялом. У матери лицо завешено до глаз, у отца открытое, борода сплошь в крови.
– Сынок, не подходи… – сказал отец.
– Ах, батюшко ты мой! Родитель ты бедный мой! – вырвалось у Сеньки.
– Да вот, как мекал ты, так оно и изошло – все она со своими убогими… приволокла-таки падаль в дом, погибель всему добру и жисти…
– Божья кара… – глухо завешенным ртом с трудом сказала Секлетея, – погибаем за грехи антихристовы… – Помолчала кратко, прибавила: – Тебя, сын Семен, прощаю! Никона беги, борони душу!
– Ушел от Никона! Не он повинен в вашей смерти.
Сенька двинулся ближе, но из темного угла, разжегши