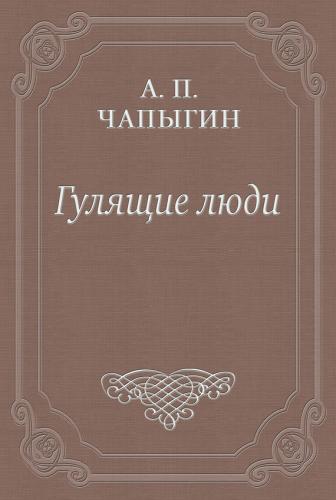– И то колова! И я ему знать буду… Камерад Иоганн, идом до меня!
Провожая майора, радуясь его уходу, Иван Бегичев приостановил Каменева на крыльце:
– Когда оборотишь ко мне?
– Жди завтра, хозяин! На дворе майор кричал:
– Золдатен! Дай нога, – марш!
За тыном двора забил барабан, и слышен был тяжелый шаг солдат.
Утром Каменев, придя, сказал:
– Остаюсь у майора секретарем – иначе в дьяках! Иван Бегичев, приказав закуски и водки, ответил:
– Добро! А как тебе, Иван, спасибо говорить – не ведаю…
– За што, хозяин?
– Этакого пьяного беса вчера угомонил! Во хмелю он бедовой… Не седни ведаю его… хмельной бедовой, а тверезый редко живет… Голову кабацкого Никифора ненавидит, везде ищет – добро сказать – утекли-таки с протопопом в пору.
Они прошли в моленную, где были вчера для пробы почерка. Бегичев заботливо перед огнем лампады оглядел листы, лучший выбрал, дал Каменеву:
– Кое буду сказывать, иное честь по-писаному, гость Иван, а ты пиши… Эта цедула составлена мной не первая… Боярину, коему пишем, я писал не единожды… Ведаю, что не до конца чел он меня, пишу, вишь – иное и сам долго мекаю – как было? Твое он до конца изочтет!
– Сказывай, внимаю.
– Мешкай мало – вот оно, мое виранье, – пиши! «Большой боярин Семен Лукьяныч! Десять лет истекло, как мы спознались на лове зверином, и ты меня, малого дворянина Ивана Трифонова, сына Бегичева, любил и жаловал до тех мест, покуда у тебя не объявились ласкатели, а мои хулители. Пуще же загорелось нелюбье твое, когда патриарх Никон сел на свой стол главы церкви святой и меня приметил, а ты отметил сие и вознегодовал… От сих мест и зачал клеветать на меня… Обличаешь ты меня, что будто бы в некий день слышал ты от меня таковые богохульные глаголы, будто я возмог тако сказать, „что божие на землю схождение и воплощение не было, а что и было, то все действо ангельское“. Одно воспоминаю, когда с тобою я шествовал из вотчины твоей, зовомой „Черная грязь“, на лов звериной, тогда ты изволил беседовать со мною на пути и сказывал мне от „Бытейских книг второго исхода“, „что егда восхоте бог дати закон Моисею, и тогда сниде сам бог на гору и беседовал со пророком лицом к лицу; и показал ему бог задняя своя…“
Бегичев, поворачивая свой лист для дальнейшей диктовки, сказал:
– А ну, Иван, кажи, каково идет наше писанье?
– Гляди, хозяин.
– Эх и добро! Где ж обучился так красовито и грамотно исписывать?
– Много меж двор брожу…
– Людей; немало ходит семо-овамо, да мало кто может не то писать, а и прочесть толково. Пишем!
«…И тогда дерзнул я прекословием пресечь глаголы твои и сказал: „Коя нужда богу беседовать к людям и явитися самому, кроме плотского смотрения. Возможно бо есть и ангела послати да тоже сотворити по воле его“. Ужели еще и за это, что я дерзнул молвить тебе встречно, ты поднялся на меня гневом своим и клеветою? И слепым