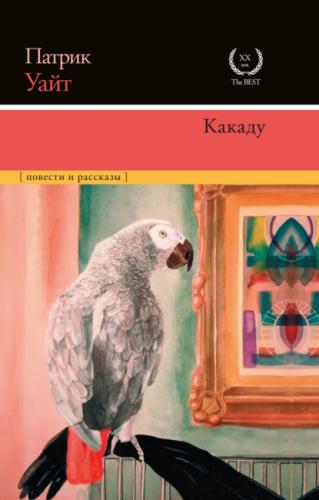– Подумай, ты помнишь про стихи, – сказал Хэролд и засмеялся. – А я забыл.
Он не забыл.
Хэролд Фезэкерли, долговязый мальчишка с торчащими ушами и вечно синими, потрескавшимися от холода руками, своими ни на что не похожими каракулями писал стихи и прочее на клочках бумаги и всегда трясся от страха, вдруг они разлетятся, попадут кому-нибудь на глаза, иди тогда объясняй, что это такое. А он не способен был объяснить и половины того, что у него получалось. Но в ту пору он не мог не писать. Позднее, когда он сумел разобраться в своих ощущениях, он понял: те подросточьи пробы пера были для него точно горячий душ в холодный день или мягкий стул в теплое утро. В то время его часто по нескольку дней мучили запоры. Стихи, казалось, утишали его страхи.
Всю зиму пронизывающий ветер истязал школу. Но летом, когда вновь появлялся дикий виноград, и лавровые деревья покрывались толстым слоем пыли, и от бурлящих писсуаров поднимался запах дезинфекции, жизнь буквально подавляла мальчишек своими возможностями.
Полно было сплетен. Хэролд Фезэкерли плохо в них разбирался. Они его пугали. Не хотел он, чтобы ему растолковывали, что к чему, избегал тех, кто готов был его просветить.
Клем Даусон был этакий молчаливый мальчишка, чуть постарше и много крепче Хэролда – толстые лодыжки выпирают из пестрых шерстяных носков, коленки вытарчивают из бриджей. Клем, вероятно, рано начал бриться. Держался по большей части особняком, но с одиночеством справлялся. Ни к чему и ни к кому не питал неприязни, хотя кто или что ему по вкусу, понять было трудно – разве что птичьи яйца, поджаренный хлеб и травка, которую можно пожевать. Странный он, вероятно, был, да и вправду странный, с таким за дверями школы и встречаться постесняешься.
Но вот однажды после полудня, когда в воздухе попахивало дымком, Хэролд Фезэкерли подошел к нему и показал два своих стихотворения. И Клем Даусон прочел их и отдал обратно. Он улыбался. У него были широкие зубы с щербинками внизу.
– Они нипочем не поймут, – сказал он. – Больно мудрено сочиняешь.
И Хэролд Фезэкерли тотчас успокоился. Притом у них появилась общая тайна; пожалуй, этого он и хотел.
Ничего между ними не было, ничего такого, чего можно бы стыдиться. Ничего Хэролд такого не делал, а какие-нибудь пустяки ведь не в счет. Ничего предосудительного, как выразился бы он потом, в дни, когда писал сообщения для печати. С Клемом, во всяком случае, такого не бывало.
Иногда они слонялись вокруг загонов в поисках гнезд. Как сиял Клем ясным весенним утром, стоя по щиколотку в жухлой траве, когда о морщинистую кору могучего дерева разбивал для Хэролда яичко сороки. К губам больше чем друга подносил пятнистую скорлупу яичка, пронизанную красноватым трепещущим светом.
– Мой высокоинтеллектуальный супруг не раскрыл секреты, очевидно известные вам обоим.
Ивлин Фезэкерли изогнула губы, полузакрыла глаза, всем своим видом подчеркивая, сколь тонкая ирония скрыта в ее словах.
Ветер, поутихший было из уважения к воспоминаниям,