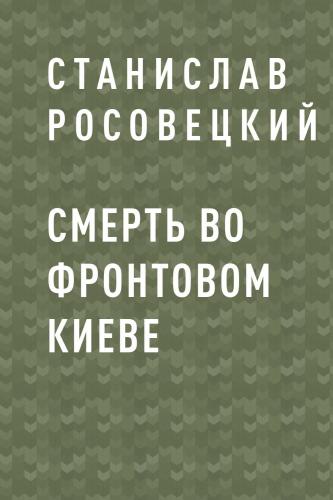– …на железную её задницу столько лет любовался. Ведь у меня окно – это в той квартире, что до развода, – прямо на неё выходило. Днём ещё так сяк, а вот ночью – везде тёмнота, а гомерический зад сверкает под прожекторами.
– Х‑ха! Героический зад! Тебе что – и секс уже не…
Когда впоследствии Сураев пытался возвратиться к этому мгновению, казалось ему, будто искорку, красно замерцавшую на противоположной стороне тёмного ущелья Прорезной, он разглядел сквозь веки, а смотрел на кренделя, что выписывали рядом на мостовой огромные штиблеты Толяна. Потом услышал свой собственный истошный вопль «Ложись!» и осознал, что летит в ноги Милке, следующим движением намереваясь оттолкнуть её за фонарный столб. Защелкало, заскрежетало, басисто завыли рикошеты. «Ротный пулемет», – отметил Сураев, вдавливая нос в жесткую ткань рукава, и тут же отпрянул. Локоть ожгло, а страшные звуки ушли за спину и смолкли. Остался тонкий визг.
«Возвращается к сбитому отдачей прицелу», – не словами, а картинкой какой мелькнуло в сознании, и он, схватившись сам на ноги, заорал:
– Всем за угол, за стену!
И замер. Потому что все они лежали, прижавшись к брусчатке, и один только Генка Флоридис, упрямый грек, не выполнил ещё и первой команды. Только сейчас, медленно складываясь, опускается он на землю, и на лице его застыло удивление.
Конечно же, тогда, в тёмноте, Сураев не смог бы разглядеть это выражение лица – разве что после, когда, ещё перед «скорой», прикатили умоновцы и врубили во дворе фары. Да, Генка удивился – и это не худший вариант из того, что может человек почувствовать в свой последний миг. А тогда, на улице, Сураев, втянув голову в плечи, потащил Генку во двор. Уложил в безопасном месте и осторожно ощупал свой левый локоть: нет, не показалось, что боль проходит – и рукав цел. Визг прекратился.
Милка стоит рядом, зажав рот обеими руками. Пашка, уже из квартиры, кричит:
– Какая разница, хто говорыть? Ну, Павло Золоторив. Тут застрэлэно значного дияча ООН…
Глава
2
Хижина, хижина! Стенка, стенка!
Слушай, хижина! Стенка, запомни!
Из древнеаккадского заклинания.
Поздним уже утром отпирая замки квартиры, Сураев провозился дольше обычного: хмель, само собой, давно уже выветрился, но глаза после ночи в отделении полиции словно песком засыпало. В комнате, не снимая кроссовок, плюхнулся на кровать. Рука, опустившись, привычно поискала горлышко бутылки, потом бессильно повисла. Нет надобности, сегодня заснет и так. Смешно, однако он по пальцам мог пересчитать такие вот бессонные, на ногах, ночи, что случались у него на гражданке, – да и другие, не на ногах которые, тоже… Ярче других запомнилась ночь школьного выпускного: на полном тогдашнем серьёзе, со скучным,