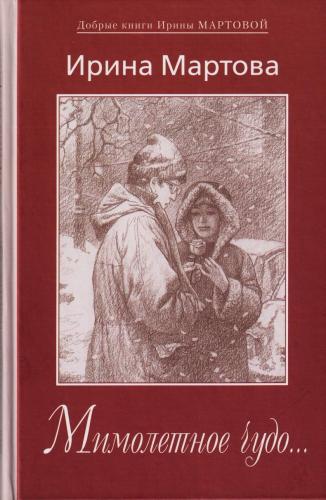Женщина приподняла фартук, повязанный с самого утра, взялась за кончик и вытерла лицо. Но отчего-то так проняло ее сегодня, так душу разбередило, что она никак не могла успокоиться. Всхлипывала, сморкалась, хлюпая носом, что-то шептала, покачивая головой… Рыдания так и рвались из груди: и мужа, так рано погибшего, не хватало, и себя, горемычную, жалко, а детей четверых, сиротинок, еще жальче…
Расстроившись, Любаша закрыла лицо фартуком, уже повлажневшим от ее слез, и зарыдала по-бабьи, чуть подвывая да постанывая.
В горнице послышались шаги. Шлепая босыми ногами по выскобленным половицам, в кухню вошел старший сын. Заспанный, взлохмаченный, он щурился спросонья, пытаясь понять, что случилось. Любаша, никак не хотевшая его расстраивать, поспешно обтерла лицо и удивленно вскинулась:
– Ты чего, милок?
Но парень, ничего не ответив, пристально поглядел в заплаканное, покрасневшее и распухшее лицо матери, прошлепал по кухне и присел рядом с ней на лавку:
– Мам, что плачешь?
Любаша, ничего не ответив, опустила голову.
– Папку вспомнила? – сын сдвинул белесые брови. – Или болит чего?
Нежность захлестнула изболевшееся сердце матери. Она обняла своего старшего за плечи. Вот она – опора и надежда!
– Не бойся… Это я так, Федюшка. Все у нас в порядке.
Сын внимательно глянул на нее:
– Ты не горюй, мам… Я вас не брошу. Ты только скажи, я все сделаю. Ты только не плачь…
Горячие слезы опять навернулись на глаза. Любаша хлюпнула носом:
– Деточка ты моя, кровинушка… И чтоб я без тебя делала!
Она уткнулась в худенькое, совсем мальчишеское плечо своего шестнадцатилетнего сына и покачала головой:
– Ой и лихо нам, сыночек… Но не бойсь, сдюжим мы, выстоим. Нас вон сколько! Мы с тобой, да Степка с Маринкой, да Митюшка еще подрастет… Не сдадимся, не пошатнемся!
Федька хмуро молчал. Жаль ему было мамку, так жаль!
Отец, кинувшийся летом спасать тонущего пьяного мужика, и дурака этого не вытянул, и сам не выплыл. Ох и кричала мать там на берегу! Еле соседки отлили водой. Да и он, Федька, не сдержался, сцепил зубы, сжал кулаки до боли, а не сдержался. Слезы текли как из небесной прорехи. А он и не стыдился. Разве горя можно стесняться?
Только мамку жалко.
Да и за этих, что сопят в горнице, тоже душа болит.
А как не болеть: Степке-то только десять, а Маринке и того меньше – восемь, а уж Митюне – так и совсем полтора года.
Федор вздохнул и скосил глаза на притихшую мать.
Та, уже вроде оправившись, подбирала волосы под косынку.
Сын улыбнулся: «Ох и хороша у нас мамка-то! Ишь, красавица…»
Любаша встала, налила в кружку свежей колодезной воды, глотнула, вытерла ладошкой рот и, поджав губы, опять присела на лавку. Помолчала, а потом