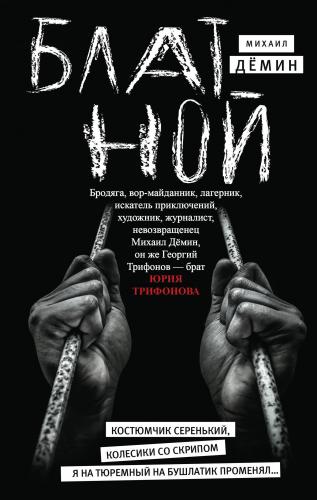Я завернул сюда мимоходом, случайно, и вовсе не думал задерживаться, не имел времени, но задержался.
– Уедешь, – сказал Измаил, – обидишь! Не прощу! Оставайся, пожалуйста. Сейчас чай пьем, потом лепешки будем кушать – с медом, с маслом, с кислым молоком. Потом – пилав. Вай, какой пилав!
Он мигнул, улыбаясь. Сложил щепотью пальцы, поднес их к губам и чмокнул звучно и сладострастно:
– Такого пилава ты еще не пробовал, клянусь бородой пророка. Чуешь, как пахнет? Варится… Скоро готов будет… Нюхай, пожалуйста!
– Искушаешь ты меня, Измаил, – сказал я, принюхиваясь к запахам, витающим в доме, и ослабевая от них. – Меня ведь ребята ждут, сам знаешь. А конь у меня ненадежный, с запалом. Дай бог к утру поспеть!
– Поспеешь. – Он взмахнул рукавами халата. – В крайнем случае – своего коня дам.
– Ну, раз такое дело, – пробормотал я, – что ж, лады.
Я вышел во двор – в голубую, лунную, ветреную прохладу. Расседлал коня, задал ему корм. Потом воротился в дом; на этот раз я прошел через заднюю дверь и случайно попал на женскую половину.
Посторонним мужчинам входить сюда запрещено; на сей счет у мусульман имеются строгие правила (и, по-моему, вполне справедливые!). Я знал Азию. И потому, смутясь, поспешил ретироваться.
Но, уходя, я все же успел осмотреться – обшарил взглядом сокровенную эту обитель.
Тут было жарко и надымлено. Гремела посуда, мельтешили женские фигуры. В углу, возле печки, помещалась сухая горбоносая старуха (мать Измаила? Старшая жена его?). Она сидела, привалясь к стене, широко и бесстыдно раздвинув ноги. Юбка ее была заворочена; из-под краешка нижней нечистой рубахи виднелись тощие, сморщенные, перевитые синими жилками ляжки.
Старуха выгребла из квашни комок густого вязкого теста, с маху шлепнула им о ляжку, старательно размяла его там, разгладила пятерней. И затем, изготовив лепешку, ловко швырнула ее на раскаленную шипящую сковороду.
«Господи, – содрогнулся я. – Вот так кухня! Под юбкой готовят… Каким же, в таком случае, должен быть хваленый их пилав?»
Я уехал тотчас же; сказал Измаилу, что спешу, что ждать, к сожалению, не могу никак – боюсь подвести друзей.
И долго еще потом преследовал меня тошнотворный этот образ старухи.
Сейчас я вспомнил о ней почти с умилением.
С каким наслаждением я съел бы здесь ее лепешки! Или, к примеру, «почесноченные» щи, те, которыми меня однажды пробовали угостить в Мордовии, в предместье Саранска.
Помнится, я сидел тогда в избе, за столом, накрытым к обеду. Хозяйка, разбитная, плотная, со свекольным румянцем на скулах, поставила передо мной тарелку огнедышащих щей. Придвинула солонку и хлеб. Потом спросила услужливо:
– Может, почесночить?
– Это как? – не понял я.
– Ну, чесночку сыпануть, а? У нас некоторые любят…
– Сыпани, милая, – согласился я, – сыпани. Я тоже люблю острое!
Все