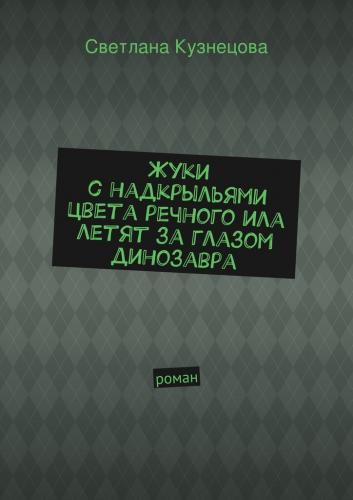– Что ж не вышла-то поздороваться? – спросил дед у бабули Мартули, когда участковый ушел. Бабуля конфузливо улыбнулась: свое беззаконие у загса она помнила.
Отец и бабуля Мартуля уходили каждый на свою работу. Мать садилась на кухне у окна и пила ячменный кофе – кружку за кружкой. Кот укладывался под батарею и скучал, а я клала ему на голову деревянный кубик. Кубик скатывался. Кот терпел. Потом я предлагала коту: «Пойдем охотиться на „тридцатьчетверку“?». Тасик возмущенно давал мне лапой по носу и уходил на кухню. Кот никогда ничего не доказывал, просто бил лапой – таков был его железобетонный аргумент. Я была смелее кота и шла на охоту в одиночку – тихо, на животе подползала к «тридцатьчетверке» за шкафом, на которой лежал дед.
Дед замечал меня и вдруг говорил: «Не слушай никого, стрелочник жуков. Пусть себе думают, что хотят».
– Как убить «тридцатьчетверку»? – спрашивала я деда.
– Гранату бросить, – отвечал он.
Я бросала под тахту кубик и шепотом говорила «ура» – кричать было нельзя: у матери болела голова. После убийства «тридцатьчетверки» я садилась к деду на постель и разглядывала гипс на его руке.
– А ты один на «тридцатьчетверке» через войну шел? – начинала я допрашивать деда.
– Нет, много нас шло, – дед говорил, как будто я была взрослой и все понимала. – Я водителем-механиком на Т-34 был. Прямо из призывного пункта повезли меня с другими пацанами в телячьем вагоне в танковый учебный полк. За три месяца выучился боевую машину водить – после трактора танк не тяжело освоить. И снова в телячий вагон – уже на фронт. Был со мной в экипаже радист-пулеметчик, он под «вышку» попал, за самострел. Остальные погибли. Три экипажа я сменил. В Кенигсбергской операции участвовал, до Берлина на своей «тридцатьчетверке» дошел уже опытным механиком. А потом уж в город приехал, на завод устроился.
Дед закрывал глаза и замолкал. Он думал о деревянных домах, в которых до революции жили купцы, о холодных зимах и сугробах по пояс, о горбатых улочках и темной реке, по фарватеру которой шли теплоходы. Нравился ему Город на Волге. Он вспоминал людей – как ходили они в драных платках и ватниках, и даже у молодых глаза были немолодые. Что-то сделала с ними со всеми война: должна была озлобить, а все словно породнились, одну на всех беду пережив.
Он вспоминал, что был на заводе, когда в марте, четвертого числа, по радио вдруг начали передавать бюллетени о тяжелом состоянии вождя. Люди прильнули к радиоприемнику и сквозь шипение улавливали слова: потеря сознания, инсульт, паралич… Шепотом передавали страшные подробности тем, кто стоял сзади и плохо слышал. В пятницу, шестого марта, рано утром по радио объявили, что вождь умер. Люди плакали.
В тот же день он после смены возвращался в рабочее общежитие