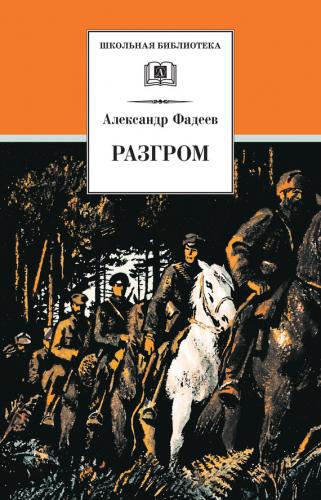Левинсон ценит эти «молодецкие» качества характера Морозки – лихость и безоглядность. Сдерживая и пресекая Морозкино своеволие, он не только не желает разрушить вольное отношение к жизни этого человека, но, наоборот, направляет его естественные, действительно свободные стремления в верное русло, старается развить все лучшее в нем.
Сцена суда над Морозкой – одна из напряженнейших в романе. Именно Левинсон устроил этот страшный для Морозки суд, и он же умно и незаметно снял нависшую над Морозкой опасность изгнания из отряда. Левинсон все время действует строго по плану. Морозка же, который «все делал необдуманно», испытывает результаты действий командира, сам того не замечая.
Непутевый и недисциплинированный боец мог «шкодить», мог напускать на себя «неприступно-наглое выражение» именно тогда, когда чувствовал себя неправым, мог трусливо размякнуть, когда у него отбирали оружие. Но вот он понимает, что его действительно могут выгнать из отряда. И он произносит клятву – неумело, трудно, «стыдясь перед мужиками»: «Да разве б я… сделал такое… ну, дыни эти самые… ежели б подумал… да разве же я… братцы!.. – вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным… – Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..»
За Морозкиной ораторской беспомощностью стоит такая преданность товарищам, в которую не поверить невозможно.
И эта преданность товарищам, без которых он не мог представить самого себя, которых он «ярко чувствовал… в себе», – тоже совершенно органична для него, совершенно естественна.
Сами события заставляют его более зрело относиться к жизни. И когда он понимает, что Левинсон прав в своих требованиях к нему, тогда в его жизни появляется нечто новое: он находит силы отказаться от многих своих привычных желаний. Например, ему очень хотелось на переправе «попугать» для смеху и без того испуганных слухами о японцах крестьян. Но он, наоборот, стал помогать им, по собственной инициативе прекратил сумятицу у парома, разоблачил панические слухи, организовал переправу. И оказалось, что отказ от обычного озорства вдруг доставил ему столь же естественную радость, какую раньше доставляло шалопайство. Морозка радуется победам над собственным разгильдяйством, радуется, когда может