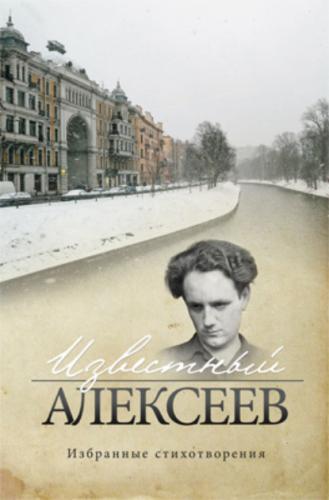двадцать и сейчас —
я почему-то вовсе не старею…
Все родилось
из гранитных ступеней,
из терпеливости рыболовов,
из поплавков и качания лодок,
из беготни и кривлянья мальчишек,
из ряби булыжника,
из разноцветных
трамвайных огней,
из газетных киосков,
из пресной на вкус
недозрелой черешни.
Был город нам отдан.
Двоим – целый город.
Он был нам игрушкой,
забавой
и домом,
убежищем тихим
и каруселью.
Он был тридевятым таинственным царством.
В нем сфинксы водились
и дикие кони,
в нем жили незлые
крылатые львы.
И был там царевич.
И, рук не жалея,
спеша, обжигаясь,
ловил он Жар-птицу.
А я убегала,
взлетала,
металась
и снова садилась,
и снова взлетала,
манила его и дразнила.
Дразнила…
И он целовал меня,
он меня трогал
и очень любил,
если я щекотала
ресницами щеку ему.
И подолгу
стояло в зените
веселое солнце,
и дождики были на редкость смешливы,
и тучи тряслись и давились от смеха,
и густо краснел хохотавший закат.
Был город сбит с толку
и взбаламучен.
Растеряны были
каналы и пирсы,
от зависти лопались кариатиды,
и были все скверы в недоуменье,
и даже атланты теряли терпенье,
и хмурились важные аполлоны,
но в Летнем саду улыбалась Венера,
и толпы амуров ходили за нами,
как свита…
Потом наступил этот день.
И следом за ним
наступил этот вечер.
И я провожала его.
В полумраке
лицо его было
бело и спокойно.
Лицо его было спокойно, как лес
при полном безветрии
осенью поздней,
как школьные классы
ночною порой.
В лице его было
сплетенье каких-то
железных конструкций,
напрягшихся страшно.
Раздался
тот самый последний гудок.
И я побежала потом
за вагоном
в толпе среди прочих
бежавших,
кричавших,
махавших платками
заплаканных женщин.
Потом были письма.
Я помню отрывки:
«Жар-птица моя,
я не смел и подумать,
что мне попадется такая добыча…
Не бойся, глупышка!
Никто не решится,
никто не сумеет такое разрушить.
Ведь сказки живучи,
ведь сказки бессмертны,
ведь их невозможно взорвать или сжечь,
ведь их расстрелять у стены
невозможно…
Жар-птица моя,
мой единственный жребий
светящийся!
Губы