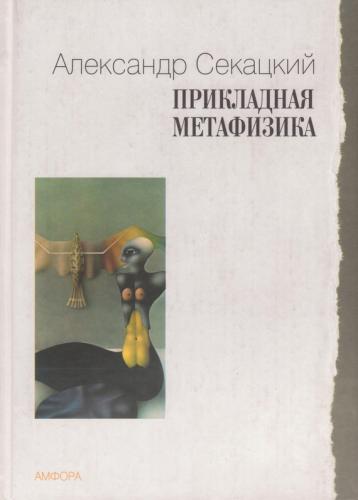Кстати говоря, если дошедшие до нас разрозненные сведения о греческой софистике не позволяют делать определенных выводов, то французская салонная философия такую возможность предоставляет. По крайней мере один из выводов со всей очевидностью гласит: имеющиеся в нашем распоряжении тексты под названиями «максимы», «опыты», «афоризмы», «характеры» и другие подобные им памятники французской моралистики не являются аутентичными фиксациями философского вклада их авторов. Скорее это партитуры или, может быть, даже либретто роскошных грандиозных представлений. Для передачи всей полноты смысла необходимо было бы воссоздание обычно опускаемых, но в данном случае чрезвычайно важных моментов: полифонии спора, общего контекста беседы, быстроты реакции или ее рокового запаздывания. Лишь на этом фоне афоризм (и даже реплика) обретают форму законченного произведения. Чтобы дать представление о соотношении потерь и сухого остатка, можно привести популярный театральный анекдот.
Премьера оперы «Евгений Онегин». Действие доходит до того места, где герой спрашивает у генерала:
– Кто это там в малиновом берете?
По сюжету дальше следует:
– Жена моя.
– Не знал, что ты женат!
Но в самый ответственный момент нужный берет потерялся. Где-то нашли зеленый и в нем выпустили актрису на сцену. Герой увидел, что надо выходить из положения, и ляпнул:
– Кто это там в зеленовом берете?
Генерал обалдел от неожиданности и, в свою очередь, выпалил:
– Сестра моя!
Евгений:
– Не знал, что ты сестрат!
Эффект последней реплики подготовлен ходом всего изложения; если это изложение опустить, получится «не смешно» – увы, чаще всего именно так обстоит дело с фиксацией вклада салонной философии.
На протяжении более сотни лет французская салонная философия на равных конкурировала с философией университетской. И если среди ее зачинателей значатся герцоги и маркизы, то последним ярким представителем высокого острословия был незаконнорожденный подкидыш Шамфор. К этому времени салонная культура перестала быть источником интеллектуальных новаций и приобрела эпигонский характер, переродившись в великосветскую болтовню.
Наступила эпоха немецкой классической философии, которая разворачивалась исключительно внутри академической среды. Без всяких преувеличений можно говорить о самом содержательном этапе в истории европейской метафизики. Одних только вкладов Канта и Гегеля достаточно, чтобы заподозрить, что немецкий и впрямь является родным языком философии. Безвыездное пребывание внутри университетской цитадели стало и временем максимального презрения к внеакадемическим попыткам философствования: критика здравого смысла в рамках немецкой классической философии приобрела статус особой дисциплины.
Тем более показательно новое смещение центра творческой