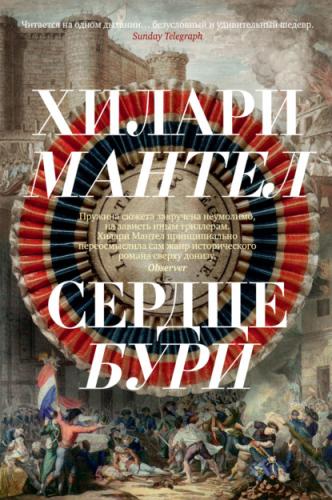Наконец этот день настал: день, в который ему предстояло вынести приговор. Он сидел перед открытыми ставнями, глядя, как ночь растекается по небу. Кто-то поставил поднос с ужином поверх бумаг. Он встал и закрыл дверь. К еде не притронулся. Ждал, когда она превратится в труху у него перед глазами, смотрел на зеленую кожицу яблока, словно она давно сгнила.
Можно умереть так, как умерла его мать, когда о твоей смерти предпочитают не вспоминать. Однако он помнил ее лицо, когда она сидела в кровати, опершись спиной на валик в ожидании, когда ее зарежут, помнил, как служанка сказала, что теперь простыни придется сжечь. Или так, как умерла Генриетта: в одиночестве, когда твоя кровь внезапно хлынет на белую наволочку, не в силах сдвинуться с места, не в силах позвать на помощь, оцепенев от ужаса, – пока этажом ниже люди болтают и угощаются пирожными. Можно умереть, как дедушка Карро: немощным, парализованным, вызывающим отвращение: умереть, тревожась о завещании, поучая помощника, сколько надо выдерживать древесину для бочонков, временами переключаясь на родных, отчитывая их за проступки, совершенные тридцать лет назад, браня дорогую умершую дочь за неприлично раздутый живот. Дедушка Карро был не виноват – виновата старость. Однако Максимилиан не мог вообразить себя старым, не мог представить, как будет стареть.
А если тебя вешают? Ему не хотелось об этом думать. Смерть в петле может длиться до получаса.
Максимилиан решил помолиться: несколько молитв, чтобы привести мысли в порядок. Однако скользящие между пальцами четки напоминали о веревке, и он осторожно уронил их на пол, продолжая считать: «Pater noster, qui es in coeli, Ave Maria, Ave Maria» и благочестивое дополнение: «Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Amen»[6]. Священные слоги сливались, образуя абсурдные слова, выворачиваясь наизнанку, обессмысливаясь. Да был ли в них смысл? Господь не собирался им руководить. Не собирался ему помогать. В такого Бога он не верил. Я не атеист, говорил он себе, просто повзрослел.
Рассвет. Максимилиан услышал цокот копыт под окном, кожаный скрип упряжи, фырканье лошади, везущей повозку с овощами для тех, кто доживет до обеда. Священники протирали сосуды для ранней мессы, а слуги внизу вставали, умывались, кипятили воду и разжигали очаг. В лицее Людовика Великого уже начался первый урок. Где они теперь, его одноклассники? Где Луи Сюло? С привычным сарказмом торит свой путь в жизни.