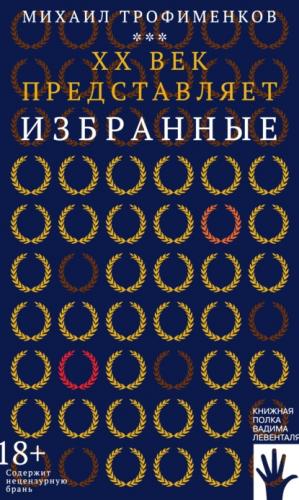«Ленфильм» был Замком Германа. Его смерть – черта под историей уникальной ленфильмовской школы 1960–1980-х годов. То есть сама школа умерла – или погибла, принимая во внимание проклятую традицию ранних ленфильмовских смертей – задолго до того, вместе с Авербахом, Аристовым, Асановой, далее по алфавиту. Но Герман, остававшийся практически в одиночестве на пепелище, так упрямо верил в «Ленфильм», что мог всколыхнуть в самом трезвомыслящем оппоненте безрассудную надежду, что студия возродится и все будет хорошо.
«Ленфильм» 1960–1980-х – не просто студия, а один из центров силы ленинградской и всей советской культуры золотого века «застоя». Из силовых линий этой культуры сплеталась и профессиональная, и частная судьба Германа. Его отец – писатель, Сталинский лауреат Юрий Герман. Его мастер в театральном институте – Григорий Козинцев, Ленинский и дважды Сталинский лауреат. Его старший друг и защитник в цэковских кабинетах – Константин Симонов, Герой Социалистического Труда, Ленинский и – шестикратно – Сталинский лауреат. Его первый главный режиссер – Георгий Товстоногов, Герой Социалистического Труда, обладатель Ленинской и двух Сталинских премий.
Еще один отдельный и тоже ждущий своего исследователя сюжет – антисоветская траектория режиссеров, выросших в семьях литературной элиты. Алексея Симонова, Андрея Смирнова, Владимира Бортко, Алексея Германа.
Священных чудовищ и «отбившихся от стада» роднит то, что порой не понять, шедевр их новый фильм или катастрофа. Так, в 1998 году критики в Канне, посмотрев «Хрусталев, машину!», в лучшем случае недоуменно пожимали плечами. Но не прошло и года, как они кинулись в другую крайность, публично каясь в профессиональной слепоте. Промежуточные оценки исключены априори: Герман относился к считаным режиссерам, чьи фильмы вызывают лишь крайние суждения, чьи катастрофы интереснее чьих-то побед.
Однако сколько лет прошло, а «Хрусталев» остается вещью в себе. Я помню физический шок, который он вызвал у меня: два часа я кружил по Парижу не в силах говорить и думать, останавливаясь лишь затем, чтобы залить этот шок рюмкой кальвадоса. До сих пор я не могу сформулировать взвешенное, рациональное суждение о фильме, да и просто определиться: физический шок от фильма – это хорошо или плохо. Наверное, фильм был не меньшим шоком для его автора.
Дело вот в чем. Когда говорят о перфекционизме Германа, подразумевают тысячи старых фотографий, пришпиленных к стенам штаб-квартиры съемочной группы; семь лет жизни, поглощенных съемками «Хрусталева»; поиск новых для зрителя, но как бы «старых» лиц, несущих на себе печать 1930-х или Средневековья; вещную насыщенность экранного мира, его хаотичную многоголосицу. Одним словом, пугающее