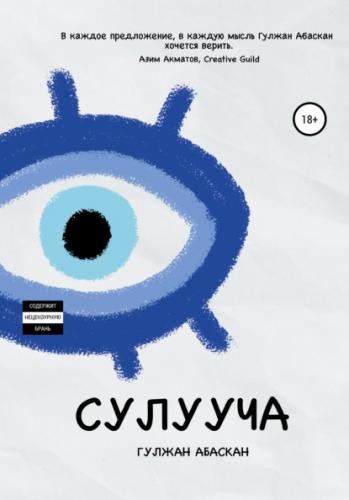III
Утром Тилек себе места не находил. Что-то искал в комнате, воздуха искал. Выскочил на улицу. Рассматривает теперь тротуар. Хмыкнул. И правда ведь, одно уродство. Это ж надо было зажать пару кусков! Всё портит, всю «Европу». Дураки.
Возвращается. Поднимается по лестнице. Хотел уже зайти домой, но решил-таки постучать в соседнюю дверь. Там – баба Надя. Старушка протягивает: «Да-а?» Тилеку это напоминает школу. Бывало, просишься выйти в туалет, а на обратном пути стучишься во все двери. Все двери почему-то открывают, будто того и ждали: если не звонка, то хотя бы отвлекающего от серости будней постукивания в двери. Правда, за дверью ведь – никого. Никогда взрослые не казались настолько глупыми.
Забавно, что в постукивании в двери теперь вдруг обнаружилось что-то теплое, человеческое, родное. Чувствуешь, будто сделал что-то очень важное. Будто соприкоснулся с живым, родным, человеческим, теплым и нечеловеческим одновременно, космически чужим. Будто всё человечество разом познал и полюбил. Правда, поздно познал, и мало.
Вошел наконец в Ташкину квартирку. Уселся в кресле у окна, обрывисто отвечая на расспросы.
– Сегодня был приступ. Он взял и кряк… – сказал это, не веря в собственные слова. –Свернулся в клубок и лежит, старый хмырь, – Тилек пересел теперь на диван, широко расставил ноги. Сам заметил дрожь в голосе, пытался исправить эту постыдную деталь, а один черт не получалось.
– Пошатнуло. Ноги меня не держали… Я наорал на него, – сказал он почти шепотом, чтобы никто не услышал. – Он лежал весь бледный, испуганный. Испугом своим меня заразил. Какая это все-таки зараза.
Отец его лежал бледнее больничных стен. Дышал, хрипя. Тилеку невмоготу, взбучил собственного отца, схватил его за плечи: «Не хрипи, кому говорю?!» Его вывела из палаты медсестра. А отец, глядя на сына, захлюпал. Седой и щетинистый подбородок судорожно затрясся.
– Обидел его, – говорит Ташка. – Старики часто плачут, потому что безнадежно стары.
– Да лучше бы бил! – вскричал Тилек.
А бьет-то его отец хорошо…
– Мир вдруг пошатнулся, – продолжает Тилек, складывает руки в пригоршню. Скрестил пальцы, скрещенными пальцами прикрыл рот, закупорил нос. Разглядывает затем свои костяшки, которыми только что стучался в двери старушки Нади. Ему захотелось сделать это еще раз, и много раз. Сколько успеет.
– Я сам не знаю, что и делать… Сам решу, что делать, – сбивается с толку Тилек. Скажет, затем оглядывается, ища свой голос, впервые его осознавая. Собственный голос кажется ему грубым, выталкивающим воздух с огромной силой и напором. Словно это целая безотказная сопротивляющаяся индустриальная машина прошлого…
В больнице наутро все трое. Ташка между пожилым и молодым. Оба – как две капли воды. Разве что поредевшие волосы отца, разве что его обвислый живот. Старик испытывает к себе жалость. Хотя, если бы и вправду испытывал жалость, то был бы к себе все-таки любезен. А это – отвращение. От слов