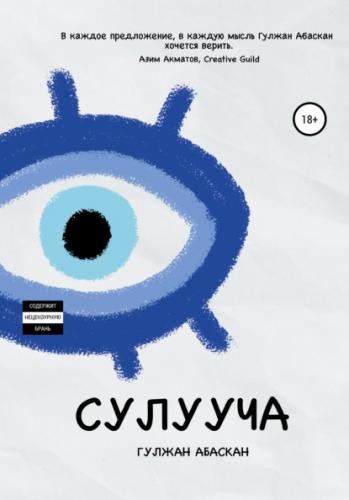С Алтынай у нее всё сложно. Пожила Алтынай некоторое время у Трунч на съемной квартире. Злобится Алтынай от того, что живет у Трунч, ест ее сытный кусок хлеба, от которого вообще-то не откажешься. Ест она, временами зубами вцепившись. Будто, если съешь больше, доставишь больше неприятностей. Погляди, я ем твой хлеб и плююсь одновременно. Противится Трунч Алтынай. Устраивает склоки, требует внимания такого, чтобы ее раздутое тщеславие ненароком не задели. Тем более буханкой хлеба. Подумаешь, буханка.
Уходя насовсем из дома, Алтынай топчет пиджак Трунч. Скандально расходится. Отрывает конверт с деньгами, которые Трунч копит и прячет, осторожно приклеивая под шкафом. Алтынай выметывается, пока Трунч не прибыла. Трунч дома своих денег не обнаруживает. Смеется. Хохочет от осечки Алтынай. Та оторвать-то оторвала, а забыла о собственном конверте старательно накопленных денег… Правда, Трунч брезгует тех денег. Она долгое время их не тронет. Не по чести падать так низко.
Хотя почему бы и не упасть? Трунч достает деньги из конверта. Их гораздо меньше, чем в ее собственном, но какое это, однако, наслаждение! Это! Ну, это! Это самое сбалансированное (неизвестно кем) утешение. Ну и потрепала же эта девчушка нервишек, да и деньги прихватила. Ну что ж…
Трунч покупает пачку сигарет на деньги, которых у нее нет. В общем, закуривает у себя на балконе, затягивается, получая удовольствие. От того, что мстит тем, что ничего не предпринимает. Оттого, что тратит кем-то заработанные деньги. От того, что эти деньги достались ей так легко. Легко.
Алтынай затем сообщает, что выходит замуж, а счастье ее не умещается в ее собственное тело. Не радоваться невмоготу, будто лопнешь, как мыльный пузырь. Радоваться тоже невмоготу – сердце ведь клокочет, боится шороха, человеческих глаз. Алтынай выскочила замуж и быстро родила погодок. А после свадьбы вертится вокруг вешалок вместе с матерью. Трунч замечает их издалека, старается не попадаться на глаза. Алтынай вся блестит, будто на редкость пыльная улица добытчиков, усеянная золотом. Мать ее в буром деревенском платье, джинсовой поверх куртке. Дочь от одного вида матери заводится. «Нельзя ли приличнее?» Матери непривычно, неловко. Готова уже смыться (как и Трунч) и больше не попадаться на глаза. Людям. Вокруг – большой торговый комплекс, а она – всего-то женщина из провинции. Сидеть на подушках не умеет. Неловко. Стыдно матери за себя, стыдно и Алтынай за них обеих. Трунч стыдно не меньше.
– Как паршивая овца! – цедит Трунч, на нее и смотрели только как на «паршивую овцу». Щелкает Трунч теперь пальцем по бумажному стаканчику кофе, морщит нос, а запах больницы будто тянется дымком, вплетаясь в один плотный жгут с дымком из чашки кофе. – И не совестно ей? – отпивает дымок. – Ей, этой Алтынай, не стыдно? Этой сопливой девчушке.
Ташка мотает головой, «по горло», хватит. Хватает Ташка булочку