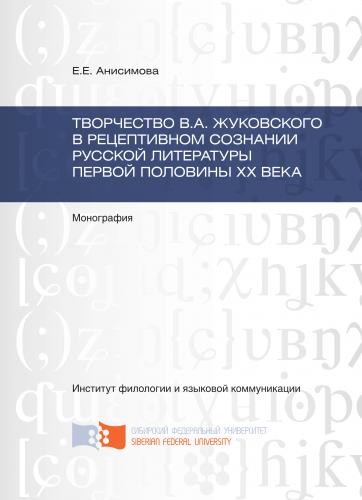Почти невозможно представить себе князя Андрея с его беспощадно острою, точною и холодною, уже чрезмерно утонченною, уже столь болезненною, столь нашею (курсив автора. – Е.А.) чувствительностью, современником «Бедной Лизы», «Вадима», «Громобоя» и «Певца во стане русских воинов». Не кажется ли, что он прочел и прочувствовал не только Байрона, Лермонтова, но и Стендаля, Мэримэ, даже Флобера и Шопенгауэра?221
Признавая в творчестве Жуковского и Карамзина важную для эпохи модернизма «чувствительность», Мережковский тем не менее предпочел дистанцироваться от нее. В образе толстовского князя Андрея критику виделся болезненный надрыв декаданса, а не руссоист-ская сентиментальность рубежа XVIII–XIX вв. Последняя казалась критику скорее отталкивающим, чем сближающим фактором. Между эпохой Жуковского и временем Толстого создатель русского символизма проводит резкую границу.
Была и другая грань образа Жуковского, которая не только вызывала неприятие Мережковского, но и вновь ставила русского балладника в один ряд с Карамзиным. Источником слишком «здоровой» чувствительности, которой отличались лучшие произведения Жуковского и Карамзина, была, по мнению критика, их ошибочная общественная позиция. В теоретических работах Мережковский открыто не демонстрировал свои историософские взгляды, но автокомментарии на эту тему нетрудно найти в его литературной критике и художественной прозе. Так, в статье «Две тайны русской поэзии» писатель детально развил свою концепцию русской литературы, финал эволюции которой он видел в рождении русского модернизма. Помимо того, что в этой работе к Жуковскому и Карамзину был добавлен Державин, в ней, самое главное, был выдвинут критерий, объединяющий этих столь разных литераторов в одну группу: подчиненное положение придворного поэта, едва ли в начале XIX в. пользовавшегося, на взгляд Мережковского, большей свободой, чем переводчик и одописец 1730–1740-х гг.:
Эта религиозная стихия православия отразилась и на русском сознании, на русской литературе.
Крепостное право – колыбель ее. Пеленами рабства повита, молоком рабства вскормлена. Можно сказать, что Державин, Карамзин, Жуковский родились и умерли в том положении тела и духа, в котором старинный придворный пиита, с одою в руках, полз на коленях к трону.
Пушкин встал на ноги222.
Разделяя либеральный миф о «сервильности» русского классицизма, Мережковский в своем романе «Александр I» прямо соотносит судьбы Державина, Карамзина и Жуковского с придворными унижениями их предшественника В.К. Тредиаковского:
– Ну, чего еще желать? – усмехнулся Пущин: – бывало, Тредиаковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз <…>223.
Дав в романе