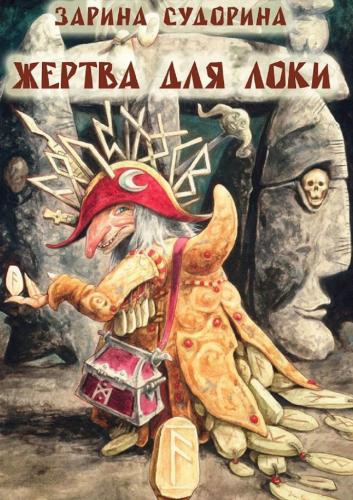Еду дальше. Открываю окно, пытаясь спастись от духоты и человеческой вони. Меня тошнит. Часто тошнит. На расстоянии руки от меня и всё же в другой реальности, на остановке бабка бормочет себе под нос: «Вот что при Акаеве было, то и сейчас при Бакиеве продолжается…» Стоит на обочине, дожидаясь зеленого. И вдруг резко выходит на дорогу.
Рванувшая маршрутка слева задевает ее капотом и, наплевав на завалившееся тело, набирает скорость. Наши и те пассажиры выворачивают шеи, пытаясь видеть конец истории. Тело, пошевелившись, встает и идет дальше по оживленной дороге, ничуть не мешая мчащимся мимо.
От приличного толчка на сидении передо мной резко вскидывает голову спящий пьяный парень. В кармане у него давно трезвонит мобила. Срывающимися пальцами открывает телефон и начинает плакать.
– Ооба10… Апа11… апа. Асель12 украли. Свадьбы не будет. Я вчера всю ночь бухал. Не знаю, что мне делать, куда я еду. Я даже не знаю, где я.
Оханье из трубки слышно даже мне. Он закрывает телефон. По его лицу текут слезы, а вся маршрутка смеется. Становится душно, и тоже хочется плакать. День обещает быть веселым.
Я встаю, продираюсь сквозь плотную черную стену – в окно вижу здание суда.
– Разрешите?
«Враги сожгли родную хату. Старуха – страшная бабка. Тихая, добрая, но не слышит, поэтому, когда говорит, всех пугает: «И где ваш хваленый коммунизм… демократия… справедливость, равенство».
…Беги стоял, прислонившись к подоконнику. Он находился в городском суде. На сегодня у него был назначен развод. Рядом девушки – слов нет, ухоженные, но некрасивые. Беги как никто другой знает в этом толк. Девушки ведут беседу, будто анекдот рассказывают, как дочка в город собирается, а мама:
– Куда же ты на ночь глядя? Темень уже.
– Мама, где мои стринги?
– Покушай. Как же ты в город голодная поедешь?
– Мама, где мои стринги?
– Ну, ты хоть теплые штаны надень.
– Мама, понимаешь, будут стринги – будет все!..»
Стринги – наше все!
…Я стояла, прислонившись к подоконнику, и ждала его, рассматривая в окно слякотный двор. Пыталась дышать не затхлым тошнотворным воздухом суда, а крохами уличного – из щелей, улизнув от запаха страха, мерзости, выплаканных бесполезных слез, растерзанных жизней… Возможно, окно привлекло меня тем, что можно было представить, будто это всё не со мной, что я на свободной улице, а здесь лишь так, для видимости. Словно это такая игра.
Неожиданно подъехало развлечение. Машина с решеткой на крыше изрыгнула из железного чрева целую вереницу, человек пятнадцать, обычных «мусоров» в мятом хаки, с одним бараньим выражением лиц на всех. Выходя друг за другом, они строились дорожкой от машины до крыльца суда, как будто собрались играть в «ручеек». Я ожидала увидеть матерых уголовников, эдаких паханов –