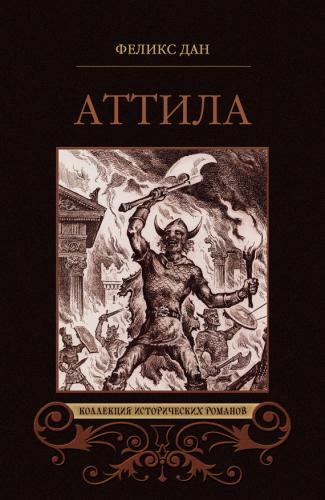Аттила умолк, наслаждаясь ужасом посланников. Он как будто ожидал возражений, до того пристально были устремлены на римлян его глаза.
Наступило продолжительное робкое молчание.
Наконец, впечатлительный ритор не смог больше выдерживать; жажда противоречия преодолела в нем осторожность, развязала ему язык; хриплым, прерывающимся голосом возразил он царю гуннов, но его протест вылился в форму вопроса:
– А… когда ты возьмешь у нас все это… то что же ты милостиво нам… оставишь?
– Души! – без запинки отвечал Аттила. – И еще кое-что. Первосвященнику – там, в Риме, лишенном своих укреплений, – оставлю гроб того иудейского рыбака, которого он так почитает. А вам всем – ваших матерей навсегда. Что же касается ваших жен, дочерей и сестер, то вы можете располагать ими, пока они не приглянутся мне… Молчи, отважный Примут! Ни слова! Ни вздоха!.. Все должны вы мне уступить, хотя бы я захотел вымотать у вас заживо все внутренности. Вот какими беспомощными, обреченными на неизбежную гибель лежите вы у моих ног! Вы не можете устоять против меня, если бы даже у вас хватило на это мужества. Ступайте! Я вас отпускаю! Сегодня был великий день, потому что Аттила – меч бога войны, отомстил Риму за все народы, которые он топтал своей пятой в течение целых веков.
Эдико отвел связанного Вигилия в одну из многочисленных деревянных башен, служивших темницами; они были снабжены крепкими дверями, плотно закрывающимися ставнями и возвышались по углам улиц в лагере гуннов. Их плоские кровли находились на значительном расстоянии от соседних жилых домов, так что прыжок с высокой крыши на ближайшее здание казался невозможным.
Посадив византийца под стражу, германец догнал остальных послов, которые медленно шли домой, понурив головы.
Узнав Эдико, Максимин остановился и с упреком сказал:
– Ты, германец,