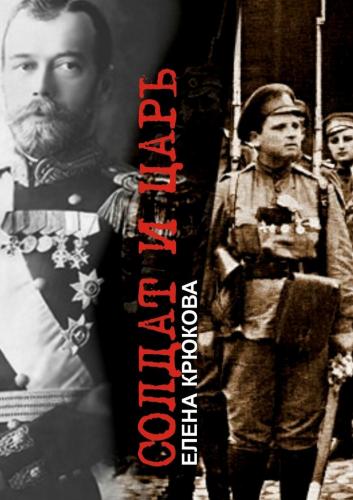«Такие облака у нас в жару… в Жигулях…»
– Умрем… Умрем. Умре-о-о-ом!
Мерзляков сначала вышептал это. Потом голос набирал силу. Возглашал, как поп с амвона.
– Умре-о-о-о-о-ом! Все умрем. Все-е-е-е-е!
– Эй, слышь, друг, – Лямин протянул к Мерзлякову руку. – что это ты завелся? Запыхтел, как старый самовар! Слышь, давай-ка это, кончай…
– Умрем. Умрем! Умрем!
Выбросил руку в сторону стоящих молча офицеров.
– И они – умрут! Умру-у-у-у-ут!
Скрежетал зубами. Еще водки в стакан плеснул. Еще – выпил.
– И я – их – убью. Убью! Убью-у-у-у-у!
Встал. И Люкин встал.
Мерзляков к двери пошел. И даже не шатался. Люкин поднял наган и надсадно взвопил:
– Вперед! Ножками перебирай! Ножками!
Спустились вниз. Офицерики впереди. Красноармейцы сзади, сычами глядели. Губы Мерзлякова тряпично тряслись. Чтобы усмирить губы и зубы, Мерзляков вытащил из кармана чинарик, злобно и крепко закусил желтыми резцами.
– Эх, жалко с бабенками мы не…
Мерзляков посмотрел на Андрусевича так, будто тот уже срамной болезнью захворал. Ствол нагана стал искать Андрусевичеву спину.
– Ну ты, ты, шуткую я… понять надо…
…Опять набились в авто. Плотно, крепко, гадко прижимались. Мотор тарахтел, мелькали снега, черные, осеребренные солью инея стволы, дома – то слепые и мрачные, то со зрячими горящими глазницами.
Ехали долго. Лямин зевнул, как зверь – рот ладонью не прикрыл. Рядом с ним сидел тот молодой, что у матери деньги брал. Под толстым шинельным сукном Лямин чуял – последним пожаром горит худощавое собачье тело молодого. «Не хочет умирать. И все же умрет. Это смерть. Смерть! Всюду смерть. А я что, дурак, только что это понял?»
Мотор заурчал, встал. Мерзляков крикнул визгливо, по-бабьи:
– Вылазь!
Все вылезли. Вывалились на снег, живая грязная картошка из железного мешка.
Офицеры сгрудились. Сбились близко друг к другу. Одно существо, шесть рук, шесть ног.
– Шинельки скидавай, мразь! – так же отчаянно, высоко выкрикнул Мерзляков.
Сашка Люкин тихо, утешно добавил:
– Да не медли, гады. Ведь все одно сымем.
Офицеры стаскивали шинели. Швыряли на снег. Дольше всех возился молодой. Ежился в гимнастерке. Слишком светлые, волчьи глаза; слишком бледные, в голубизну, щеки.
«Да он уже мертвец. Краше в гроб кладут. Гроб? Какие тут у них будут гробы? Да никакие. Жахнем по ним – и все. Поминай как звали. Вороны расклюют. Зимние птицы. Собаки, волки по косточке растащат».
– Что ковыряешься, мать твою за ногу! Минуту хочешь выкроить лишнюю?!
Мерзляков пучил глаза, становясь похожим на лягушку в пруду. Глаза молодого совсем побелели. Белые, ледяные, ясные, загляни – и на дне звезды увидишь. Как днем в колодце.
– Нет. Не хочу.
Голос