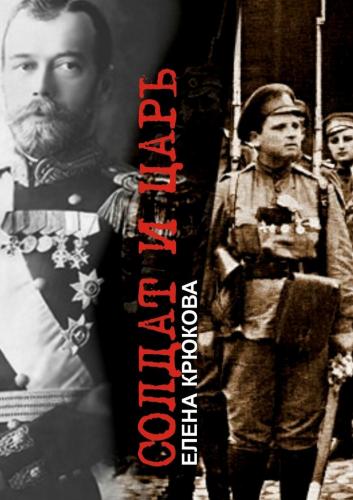Окурок тлел, дотлевал в согнутых, сцепленных грязным заскорузлым кольцом пальцах.
– Простой! – Уховерт хохотнул. – Мы нынче все не простые. Нынче – власть народа. Смекай, значитца, чья власть? На-а-аша. То-то же. Щас всякий-каждый – до верхов долезть может. И с самим Лениным балакать. Никитка – балакал.
– Не верю!
Насмешка изогнула табачные губы Лямина.
– А я – верю. Толку что не верить?
– Ладно, – мирно сказал Лямин. – К сведению принял. И что это означает?
– Как – что?
Уховерт, не мигая, глядел в заросшее щетиной лицо Лямина.
– Мы можем ужесточить режим охраны?
– А-а, вот ты о чем. – Лешка плечами пожал. – Хочешь, и ужесточай. Веселись в свое удовольствие. Надо же им отомстить, негодяям.
«Гляди ж ты, как всем нам они насолили».
Вспомнил, как царицу в газетах рисовали отвратной проституткой, чернобородого Распутина рядом с ней – грозным остроклювым коршуном, только без порток, а царя – с длинными хищными зубами, и кровь с клыков на мундир каплет.
Кровавые! Изверги!
«Вместо того, чтобы их пустить в расход где-нибудь в проходном дворе – мы тут их бережем, стережем. Сметанкой кормим, яйцами. Свежий хлеб на рынке повара покупают, да чтоб калачи еще теплые были».
Дрогнул спиной. Свел лопатки.
«Надо что-то резкое, злобное сказать. А то подумает: я тряпка, тюхтя. Или что я с царями в сговоре».
– И то правда. Спасибо, надоумил.
* * *
Их было трое, и все уже под хмельком.
Как Михаил затесался меж них, он толком не помнил.
Сначала комиссар отпустил погулять: вроде как вознаградил. «Кумекает, паря, што мужикам тожа надоть отдыхнуть!» Чей голос выпалил это Лямину в самое ухо? Он даже не обернулся – как шел по темной улице, так и шел. Чуть впереди этих троих.
Куда шли? В Тобольске не загуляешь с размахом, это тебе не Москва, не Питер. И даже не Самара. «Ой, Самара-городок, беспокойная я…» – сами вылепили губы. Помял пальцем верхнюю губу: простыл намедни, там, где усы пробивались жесткой грубой щетиной, выскочил крупный, с ягоду черники, чирей.
Однако шли гулять, это он хорошо помнил.
– Беспокойная… я… успокой… ты…
Фонарь висел над головой переспелым желтым яблоком.
– Меня…
Когда шли по улице Туляцкой – навстречу трое.
«Их трое, да нас же четверо, отобьемся, если что».
Шаги срезали расстоянье. Подошли ближе. Вот уже очень близко. Офицерские погоны.
– Беляки, – плюнул вбок Андрусевич, и слюна на усе осела, – вот тебе нумер…
Мерзляков подобрался, под расстегнутой курткой – Лямин увидел – подтянул ко хребту живот. Готовился.
– Ненавижу, – тускло сказал Андрусевич. Глубже надвинул на глаза кепку.
– Я лютей ненавижу, – бросил Люкин. И визг кинул в ночной холодный, черный воздух:
– Ненавижу-у-у-у!
Офицеры встали.
«Откуда? С какого припеку? Кто завез? Сами приехали? Брать. Расстрелять на месте?»
Мысли