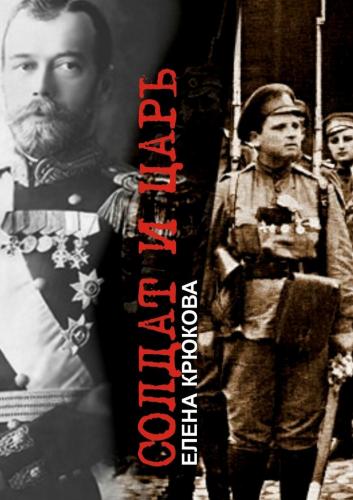Ничто: ни казни, мести, ни отравы —
Перед лицем Твоим не прокляну.
Смерть – это снег. Там холодно. Кровавы
Мои ступни – от ледяных гвоздей.
Гуляет ветр неведомой державы.
Всяк на снегу, прикрыв рукой корявой
Лицо от ветра, – раб, испод людей.
…как это красиво написано. Какая красивая, скорбная тут смерть. А ведь на самом деле она уродливая. Она страшная и ненавистная. Для кого? Для того, кто не верует в Бога?
Да ведь и для Бога – чистку придумали.
…да сырою красной тряпкой до Него – не дотянулись.
Поэтому не говорите мне, пожалуйста, о последней правде. Не кричите мне в уши о том, у кого она на самом деле спрятана за пазухой. Я не шарю по чужим карманам. И я не рву прилюдно рубаху на груди и не кричу: я, я одна знаю все, эй, слушайте меня!
Не слушайте. Закройте глаза и тихо подумайте о смерти. Эти письмена – о смерти и о жизни, и она-то есть одна медаль, единый Георгиевский крест о двух сторонах, им же нас наградили родители, земля, Бог. Да, Бог, кривитесь и отворачивайтесь, безбожники. Это ваше право. У вас в руках, вижу, новые красные тряпки – новую пыль с веков стирать.
* * *
Комиссар Яков Юровский не любил вспоминать.
Он вообще не любил задумываться; его нутро было устроено так, что ему надо было все время действовать.
Дело – вот был его стяг. Он высоко поднимал его над головой.
Но хитер был; любое дело ведь, прежде чем делать, надо обдумать, и вот тут – обдумывал. И продумывал все: тщательно, до подробностей. Перестраховщик, он все делал, отмеряя и вымеряя, не надеясь на везение, а надеясь только на себя.
Но иной раз, вечером, дома, улегшись, после вкусных маковых кнедликов матери, тети Эстер, на низкую скрипучую кушетку и закинув руки за курчавую баранью голову, он вспоминал то, что минуло.
…Стекла в руках отца. Они блестят, на солнце – ослепляют.
Он, мальчишка, заслоняется рукой от нестерпимого блеска.
Отец вставляет стекла в окна людям: и богатым, и не очень. Чаще всего бедным. Берет за работу очень дешево. Стекла у него грязные, и часто бьются. Рассыпаются мелкой радугой. Отец страшно сутулый, почти горбатый. Он горбатится потому, что все время таскает стекла. Ноги его заплетаются, как у пьяного, хотя он не пьяный; когда он устает, он свистит сквозь зубы смешную мелодию из трех нот, и тогда мальчишке Янкелю кажется: отец – птица, и сейчас улетит.
Отец таскал стекла, а мать шила и шила, и из-под ее руки, из-под стучащей иглы швейной машинки ползла и ползла река разных тканей. И толстых, и тонких. И пушистых, и паутинных. Шерсть, твид, креп-жоржет, крепдешин, бархат, плис, шелк. Ножницы в руках матери пугали Янкеля. Они взмахивали, и отрезали кусок от длинного, сходного с великанской колбасой отреза, – а Янкелю казалось, что они сейчас отрежут ему голову. И он кричал: «Не надо!» – и убегал в сарай во дворе, и забивался за поленницу дров, и втягивал курчавую голову в острые плечи, и плакал, трясясь.
&nbs