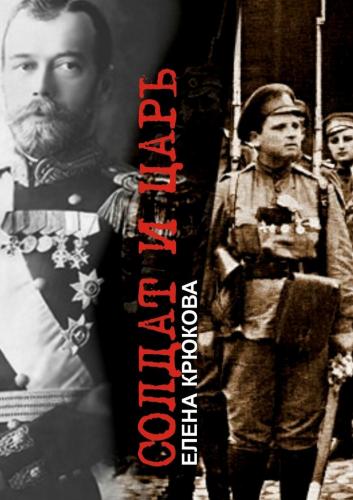…Никто на селе не знал, как на самом деле Мишка родился. Баба Лямина мучилась четверо суток. Весь язык себе искусала, все пальцы. Схватки все нагнетали внутри боль, а лонные кости не расходились. На пятые сутки Ефим Лямин быстро, нервно перекрестился на икону Пантелеймона целителя, выхватил из ножен саблю, с которой воевал в геройских войсках генерала Скобелева под Шипкой, подошел к жениному ложу, – там возвышался огромный, шевелящийся, стонущий женский сугроб. Рядом навытяжку стояла старшая дочь, Софья, наготове держала толстую швейную иголку со вздетой суровой ниткой.
Старая мать Ефима опустилась на колени перед роженицей. Бормотала молитвы и постоянно, мелко крестила блестящее, страшное, потное лицо снохи.
Молния сабли ударила между людских лиц. Из разреза обильно потекла слишком яркая кровь. Простыня и перина мгновенно пропитались алым. Бабьи потроха шевелились, мерцали, кровили, вспыхивали, и в этом шевелении выпукло просвечивала головка младенца и согнутые коленки. Ребенок лежал в утробе головою вверх, к желудку матери, ножками – к выходу из тьмы. Лезвие чуть задело нежную кожицу.
Все кровоточило, плыло, билось, уплывало. Ефим чуял – разум теряет. Бросил саблю, она брякнулась о половицу и зашибла хвост толстому рыжему коту. Баба закатила белки. Свекровь уже вынимала руками, темными и корявыми, как корни старого степного осокоря, из кровавой ямы материного живота крошечное тельце, и шевелились, вздрагивая и сгибаясь, червяки-ноги, ящерицы-руки. Софья портновскими громадными ножницами обрезала пуповину.
Ефим закричал дико:
– Шей! Живо!
Софья втыкала в окровавленную, скользкую кожу иглу, никак не могла проткнуть, ревела, рот кусала.
Ефим стоял, обхватив руками лысеющую голову. Красный червячок на коленях у старухи корчился. Старая мать сидела на полу, расставив ноги, ниткой заматывала ало-лиловый кровоточащий отросток. Дочь тянула вверх нить, игла дырявила родную плоть. Рана закрывалась жутким, бугристым швом. Софья затянула узел и перегрызла нить. Шарахнулась к буфету. Вытащила четверть. Еле подняла стеклянную зеленую тяжесть: на дне, сонно, бредово отсвечивая лунным зеркалом, плескался спирт.
Ефим подставил горсть. Софья плеснула. Ефим склонился, пыхтя, над улетевшей далеко женой, разжал руки. Спирт вылился на свежий шов, обжигая дикую рану, смывая кровь жестоким прозрачным огнем. Родильница не двинулась.
Так и лежала, запрокинув голову, и подушка медленно, бесконечно валилась на пол, все валилась и валилась.
…Ефим Михайлыч Лямин отменно избы рубил. Срубы его стояли намертво, несгибаемо, как солдаты на взятой высоте, – не расстрелять, не растащить по бревну, только сжечь. Огонь, он все возьмет. Ефим учил мальчишку Миньку плотницкому делу. «И сам Христос-от, – дул, плевал на руки, на красные вспухшие горошины мозолей, – плотником был, смекай!» Минька вертел топор в руке, блеск лезвия резко бил по глазам, Минька щурился, точь-в-точь повторял движенья батьки.
В десять