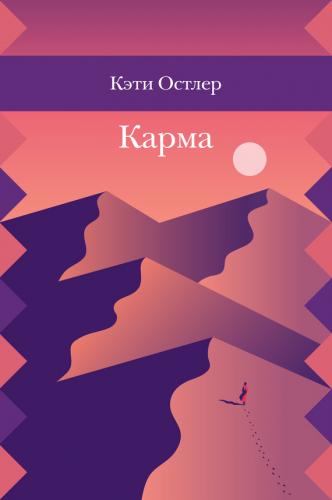Твой отец говорит, ты каждый день из школы шла прямо домой, чтобы быть с мамой. А сегодня почему не пошла?
Не знаю.
То есть все шло как обычно?
Да.
Хелен подтвердит твои слова?
Нет, не подтвердит.
Значит, у тебя была особая причина пойти к Хелен?
Хелен не подтвердит моих слов, потому что не знает, что я у нее была.
Выходит, ты зашла в гости к подруге, а ее не было дома?
Да. В смысле, нет. Она была дома.
Джива, у тебя получается какая-то ерунда.
(Нет, ерунда – это когда лучшая подруга крадет у тебя одежду, наряжается индианкой, а потом занимается этим с мальчиком, который тебе нравится. И когда ты бежишь домой через поле с лицом, мокрым от слез и стыда, и вдруг понимаешь, что пианино молчит. И теперь так и будет молчать.)
Тот день
На самом деле я не каждый день шла прямо домой. Я занималась в хоре. Выпускала школьную газету. А иногда я притворялась, что меня дома нет. Тихонько пробиралась на площадку второго этажа, садилась на корточки за дверью и слушала, как грустные пальцы бегают по грустным клавишам. Когда она думала, что никто не слышит, она играла по-другому. Еще пронзительнее.
Если мата меня замечала, она приходила в волнение, даже начинала сердиться. Я тебя ждала, – говорила она. – Беспокоилась, что тебя все нет и нет. Мы обе понимали, что это неправда. У нее не было ни чувства времени, ни чувства материнства. А в последние годы она еще и перестала отдавать себе отчет, какое время года на дворе. Я не раз заставала ее зимой у широко распахнутого окна. Она играла на пианино, а снег тем временем белым мехом ложился на подоконник.
Мы обе делали вид, что она по-настоящему сердится. Я целовала ей руки и просила прощения. Она трепала меня по щеке, как треплют, лаская, собак.
Но в тот день я замешкалась на обочине шоссе, где ссадил меня школьный автобус. Я решала: пойти ли напрямик через поле или сделать крюк по дороге. Осенью ходить по полям было неприятно: одни покрывала обугленная после осеннего пала стерня, на других подсолнухи стояли со склоненными головами, как сдавшаяся в плен армия. Но в тот день ветер напевал для меня Бетховена – мелодию одиночества и отчаяния. Хотя я тогда еще не успела испытать настоящего отчаяния. Но что такое одиночество, я знала хорошо. Пересохшей рекой оно пробивало себе путь у меня под кожей и дальше, сквозь почерневшую землю. И тут я свернула к дому Хелен. Это был скорее порыв, а не сознательное решение. Мне захотелось узнать правду.
Подслушано в сарае у Хелен
– Она тебе нравится?
– Да не очень. А она знает, что ты его взяла?
– Она разрешила, если захочу поносить.
– Мне казалось, вы с ней не разговариваете.
– Она мне его еще раньше дала. Настоящий шелк, между прочим.
– Ты уверена, что правильно эту штуку надела?
– Да, я умею. Только не очень помню, как здесь надо. С этими сборками спереди.
– На ней оно по-другому выглядит. Наверно, у тебя волосы слишком короткие. Или слишком светлые. И украшений правильных нет. Где, например, сексуальное