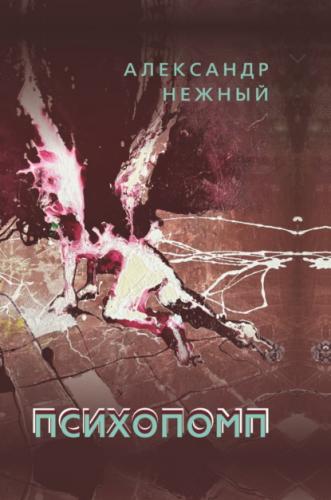Где они? Дора Борисовна, ее муж, Финкельштейн, в миру Евгений Александрович, а в паспорте Шлема Хаимович? Где Марина, их дочь? Во времена, какие теперь трудно даже вообразить, во времена – иначе не скажешь – о́ны у Лукьяна при ее виде колотилось сердце, и – на кухне или в коридоре – он норовил как бы невзначай прикоснуться к ней, вдохнуть исходящий от нее смешанный запах духов, утомленного долгой игрой на пианино тела, шоколадной конфеты во рту – после чего, Боже Ты мой, что творилось с ним ночами! Сны изнурительные. Он тщетно умолял ее о чем-то, для чего у него еще не было слов, что было скрыто в нем самом, ворочалось, жгло, томило и влекло к ней, единственной на всем свете, кто могла бы только ей известным волшебством превратить мучительное его томление в безграничную, ему еще неведомую легкость. Где ты, милая тень? Где они все?
Бабушка, то есть бабушка еще не появившегося на свет Марка, а его, Лукьяна, мать, с враждебным чувством говорила, что они отправились в свой Израиль, где будто бы находится их древняя родина. «Израиль», – говорила она и сухо смеялась. Покинувшие Россию люди, кем бы они ни были и как бы им тут ни жилось, никогда не обретут настоящую родину взамен той, которая приютила, выкормила, выучила их, а они отплатили ей черной неблагодарностью. Взрослея, Лукьян думал, что и Дора, и Шлема, должно быть, уже умерли в своем Израиле (странно, но и у него ударение падало на последнее «и») и похоронены в горячем песке под камнем с шестиконечной звездой. Гроб им полагается или всего лишь саван? В нашем сыром суглинке без гроба нельзя. Живому – дом; мертвому – домовина. А там, под жарким солнцем, отчего бы не обернуть мертвое тело легким полотном и не опустить в глубь прокаленной вечным зноем земли.
Сидя за письменным столом – между прочим, с подаренным Марком компьютером, к которому, однако, он относился с опаской, как к существу с коварными повадками, всегда готовому, словно кит – Иону, поглотить кусочки будущей книги, со стопкой писчей бумаги справа и с «Паркером», тоже от Марка, – он и в самом деле был, к примеру, почти как Лев Толстой на портрете Ге, даже с бородой, правда, значительно уступающей в размере и еще не вполне поседевшей; если же подобное сравнение вызовет возмущенный ропот, то, во всяком случае, как писатель, всякий раз заново познающий, что нет на свете мук сильнее муки слова, о чем свидетельствовала вертикальная морщина на лбу, между бровей. Возможно. Однако мысли его блуждали далеко