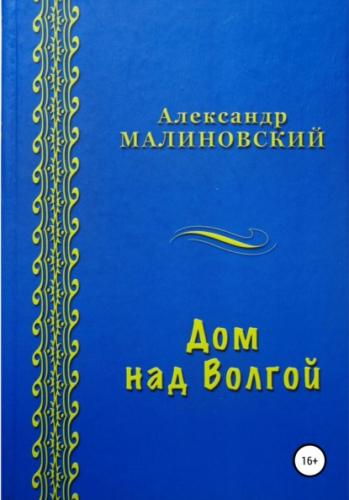…Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка заполнил четверть ведра, а всего-то прошёлся по половине зала. Решив передохнуть, сел в кресло и грустно повёл глазами. Зал был большой. По бокам сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу – оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс…». Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. По-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как зазвучала мелодия, звуки которой сначала заполнили сцену, затем перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полуосвещённом зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит там. Тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему этого как раз было не надо.
Он забыл обо всем. Видел и слышал только её.
Лёгкие белые руки Верочки, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. И невольно задел стоявшее около ног ведро с шелухой. Оно чуть звякнуло. Это привело Шурку в ужас. Но на сцене всё было по-прежнему. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в его селе не было. Это оттуда, из той, далёкой жизни, которую он пока не знал и которая была недосягаемой и чужой.
Верочка вскинула руки, легко и плавно опустила их на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую секунду он оказался во власти чарующей, завораживающе-светлой, но грустной до слёз мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал неизъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась и лилась. Пустой зал вбирал её и обрушивал на одного-единственного слушателя – Шурку…
Музыка поглотила его. Он видел, как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее – силуэт её, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и всё это было недосягаемо и сказочно, и всё проходило мимо – мимо его жизни. Он это почувствовал. И заплакал. Слёзы сначала не давали отчётливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Вновь задел ведро, которое, звякнув дужкой, опрокинулось и покатилось вокруг Шуркиных ног, просыпав содержимое. Шурка, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.
Верочка перестала играть, встала и подошла к оркестровой яме. Близоруко оглядела затемнённый зал, их взгляды встретились.
– Александр, ты?
– Я, – сконфуженно ответил Шурка.
– А что ты здесь делаешь один