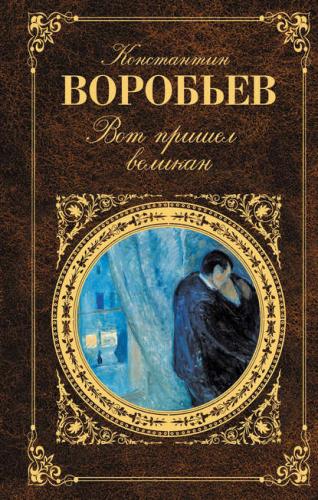– А ну, вжарь комаря!
Тот тоже встал – сидя нельзя было в тесноте развернуть мехи гармошки – и сначала вывел какую-то замысловатую руладину, чтоб размять и разогнать пальцы. Дядя Мирон стоял на середине хаты, выжидая и шевеля носками сапог, и как только гармошка сыпанула «камаринского», он пригнулся, выбил ладонями на голенищах чечетку и, раскинув руки будто для обнима всех, четко и в лад коленам плясовой не пропел, а проскакал, глядя на одного меня:
Ай да дедушка лысенький,
Запасал муку-высевки!
А за что ж его высекли?
За муку да за высевки!
Присказка была с «бородой», я знал ее с детства, но дядя Мирон подмигивал мне плутовски, намекающе-откровенно и весело. Наверно, он увидел, что я все понял и принял так, как ему хотелось – «не дурить», и, подплыв в плясе к тетке, тоненько проголосил ей почти на ухо:
Не по-старому закон повела!
Полну хату женихов навела!
У тетки оттаяли глаза, и она засмеялась со всеми вместе. Застолье нарушилось. На середину хаты выбежали Надичка и Андрюха Захарочкин. Оттиснутый ими к дверям чулана дядя Мирон снова хитровато подмигнул мне, и я кликнул, чтобы он скорей шел ко мне.
– Чего ты? – тревожно спросил он и взглянул в сторону тетки.
– Я люблю тебя! – сказал я. – Я всю жизнь любил тебя! Давай поцелуемся!
– Это давай, это сколько хочешь, – сказал дядя Мирон, и мы стали целоваться истово и горячо.
– Ну будет, будет вам миловаться! Ишь, дорвались, – ревниво, без осуждения сказала тетка. Я подошел к ней, обнял и поцеловал в глаза. Она всхлипнула и села на диван, а я стал перед нею на колени и заплакал, и дядя Мирон заплакал тоже.
Гармошка унялась. За столом насупились и замолчали.
Потом мы еще пили, плясали и целовались. Спать я улегся на диване с дядей Мироном – так захотел он сам…
Может, только в Ракитном звенят потемки в хатах, когда засиневаются окна, когда все, кроме слушающего, спят. Звон похож на ветровое касание балалаечной струны, если знать, что такое балалайка. Но, может, это не во всех хатах так. Может, певучих тут только две – наша да вот дядина… Дядя Мирон спал на спине, умиротворенно покоя руки на груди, и я тихонько перелез через него, благолепного, лысого и чистого, как младенец. Дверь я открыл неслышно