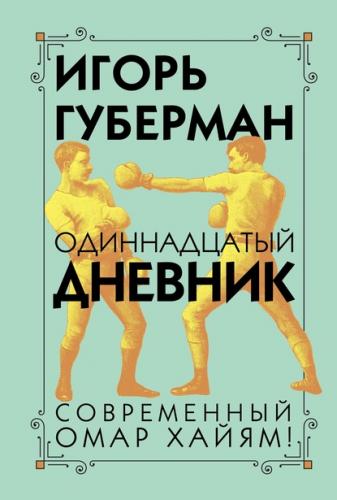который переварен был и пресен.
Истёрлись юные томления,
забыто первое свидание…
У смерти есть уведомления,
одно из первых – увядание.
Снился мне удивительный бред,
из разряда вполне сумасшедших:
ем я свой ежедневный обед,
а вокруг меня – тени ушедших.
Печалюсь я совсем напрасно —
течёт отменная пора:
и в голове пока что ясно,
и выпить хочется с утра.
Никто на свете не повинен
в житейских горестях моих,
и в тесноте моих извилин
опять лопочет новый стих.
Столько мерзости в мире творится
при молчащем общественном мнении,
что светлеют причастные лица,
а свидетели – в недоумении.
Враньё и ложь не побороть,
они царят сейчас,
но кажется, и сам Господь
наёбывает нас.
Приснился мне роскошный сон:
я в рай медлительно иду,
а над котлами вознесён
стоит мой памятник в аду.
Моя поэзия простая
полна исконных слов народных,
и пусть меня ругает стая
из эрудитов гуглеродных.
Я сионист и русофил,
я просто с этим вырос —
во мне гнездо, похоже, свил
раздвоенности вирус.
Увы, но такая натура,
и грустно мне в этом признаться:
в меня мировая культура
напрасно старалась впитаться.
Немало в жизни было сложностей,
на одоленье был я скор,
а вот упущенных возможностей
я не заметил до сих пор.
Всё прошлое сгорает не дотла,
судьба его совсем уже другая:
из памяти оно ручьём тепла
течёт, печаль и радость исторгая.
Смотрю на морды, рожи, хари,
на скотский в их чертах покой;
конечно, все мы – Божьи твари,
но не до степени такой.
Раньше я не думал как-то никогда
о великой трудности сосуществования:
у людей без совести нету и стыда,
и напрасны, значит, все увещевания.
Остаток ощущая как избыток,
браваду излучая и кураж,
едва хлебнув живительный напиток,
мы сразу же плюём на возраст наш.
Загадка останется вечной
при всём изобилии книжном:
Творец существует, конечно,
но в виде, для нас непостижном.
Моё житьё весьма обыкновенно —
уже с утра за письменным столом;
а время, когда море по колено,
в далёком и забывшемся былом.
Смотрели б мы уверенней вперёд,
и стал бы жить духовнее народ,
но много очагов цивилизации
страдает от еврейской оккупации.
Строит