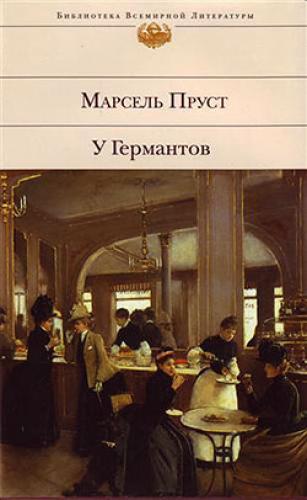Покончив со всеми обрядами, Франсуаза, являвшаяся, как в первые времена христианства, священнослужителем и в то же время просто верующей, выпивала последний стаканчик вина, вытирала салфеткой рот, на котором оставались пятна вина и кофе, затем снимала с шеи салфетку, складывала ее, продевала в кольцо, страдальческим взглядом благодарила “своего” молодого лакея, – тот в пылу усердия предлагал: “Еще винца, сударыня? Вино чудесное”, – и немедленно отворяла окно под тем предлогом, что ей дышать нечем “в этой поганой кухне”. Поворачивая ручку в оконной раме и втягивая в себя свежий воздух, она живо бросала будто бы безучастный взгляд во двор, украдкой убеждалась, что герцогиня еще не готова, на мгновение задерживала горевший презрением взгляд на запряженной коляске, а затем, уделив минутку внимания земному, возводила глаза к небу, в ясности которого она не сомневалась – до того мягок был воздух и так хорошо пригревало солнце; и она долго смотрела на тот угол крыши, где каждую весну селились как раз над дымоходной трубой моей комнаты голуби, похожие на тех, что ворковали у нее в кухне, в Комбре.
– Ах, Комбре, Комбре! – восклицала она. (То, что Франсуаза произносила это взывание почти нараспев, а также арльская правильность черт ее лица как будто свидетельствовали о южном ее происхождении и о том, что утраченная ею родина, которую она оплакивала, была лишь второй ее родиной. Но это впечатление могло быть и обманчивым, ибо нет, кажется, такой провинции, у которой не было бы своего “юга”, и у скольких савойцев и бретонцев обнаруживаешь транспонировку долгих и кратких звуков, характерную для южанина!) Ах, Комбре, и когда-то я тебя увижу, милый мой городок! Когда-то я проведу целый божий день под твоим боярышником и под нашей милой сиренью, послушаю зябликов и Вивону, – уж она и журчит: ровно кто шепчет! – вместо противного звонка нашего молодого барина: ведь он каждые полчаса гоняет меня по этому чертову коридору. Да еще говорит, что я не скоро прихожу,