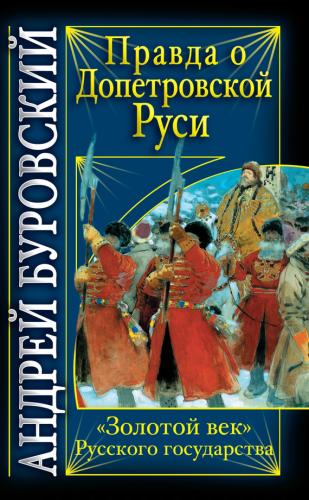Кроме собственно крестьян-тяглецов, в черносошных общинах жили еще так называемые «бобыли» – обычно ремесленники или наемные работники, то есть сельское население, но не тяглое; те, кто изначально земли не пахал.
Были, правда, и «пашенные бобыли», владельцы небольших участков земли. Само их существование доказывает: землю можно было купить и продать. Иначе откуда бы взялась земля у «пашенных бобылей»?
Впрочем, М.М. Богословский давно и совершенно определенно писал: «Владельцы черной земли совершают на свои участки все акты распоряжения: продают их, закладывают, дарят, отдают в приданое, завещают, притом целиком или деля их на части».
Этот крестьянский капитализм зашел так далеко, что возникли своего рода «общества на паях», союзы «складников», или совладельцев, в которых каждый владел своей долей и мог распоряжаться ею, как хотел, – продавать, сдавать в аренду, подкупать доли других совладельцев, а мог и требовать выделения своей доли из общего владения.
М.М. Богословский писал: «В севернорусской волости XVII века имеются начала индивидуального, общего и общинного владения землей. В индивидуальном владении находятся деревни и доли деревень, принадлежащие отдельным лицам, на них владельцы смотрят как на свою собственность: они осуществляют на них права распоряжения без всякого контроля со стороны общины. В общем владении состоят и земли и угодья, которыми совладеют складничества – товарищества с определенными долями каждого члена. Эти доли – идеальные, но они составляют собственность тех лиц, которым принадлежат, и могут быть реализованы путем раздела имущества или частичного выдела по требованию владельцев долей. Наконец, общинное владение простирается на земли и угодья, которыми пользуется как целое, как субъект… Река с волостным рыболовным угодьем или волостное пастбище принадлежит всей волости, как цельной нераздельной совокупности, а не как сумме совладельцев».
Право же, тут только акционерного общества и биржи не хватает! Или до этого просто не успело дойти дело?
М.М. Богословский сравнивает положение черносошных на Руси и положение вольных крестьян-бондэров, или бондов, в Норвегии, вольных бауэров в Германии, находя множество аналогий.
Со своей стороны, автор только хотел бы смиренно напомнить, что север Московии – это коренные земли Великого Новгорода. И что Великий Новгород и в XIV, и в XV веках, до самого своего убийства Москвой, развивался как одна из циркумбалтийских, то есть «вокруг балтийских», цивилизаций.
И этих крестьян очень много: более 50 тысяч дворов, то есть патриархальных артелей, а всего никак не меньше полутора миллионов человек.
Причем не только ведь на севере, но и в центре Московии, в самом сердце Великороссии, в XVII веке есть черносошное крестьянство. Солидный советский справочник отрицает это: «К середине 16 в. Ч.к. исчезли в центр. р-нах страны, но сохранились на севере».
По