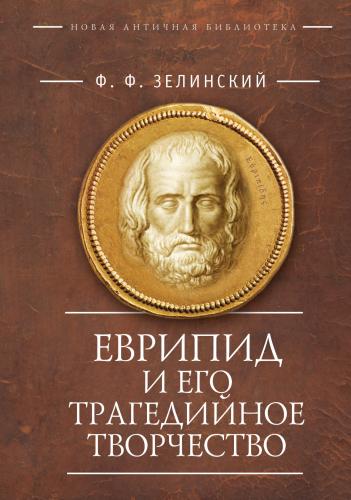Это было в понедельник, 30 ноября, на Высших Историко-литературных курсах Н. П. Раева, где покойный в течение последних полутора лет читал античную словесность и где мы с ним исправно встречались по понедельникам в 12 часов, в перерыве между его парой лекций и моей. Мне рассказывали потом, что он читал в этот день особенно бодро и воодушевленно и потом весело беседовал со слушательницами, приглашавшими его прийти вечером на их концерт и бал. Да и мне он показался тем Иннокентием Федоровичем, каким я его знал в лучшие моменты его жизни; говорили мы с ним о его курсе, о Еврипиде и в отдельности о его реферате, который ему предстояло прочесть в тот же вечер в Обществе классической филологии о «Таврической жрице» Еврипида. Затем – моя лекция, а следовательно, и прощание. Говорю ему машинально обычное «до свидания», уже погруженный в свой курс. «Сегодня вечером – не правда ли?» – «Да, конечно», – отвечаю, не подозревая, какое это будет свидание.
К 8 часам в помещении Общества собралось большее против обыкновенного число членов – сообщения Иннокентия Федоровича всегда служили особенно лакомой приманкой для обремененных своим делом и стесненных во времени педагогов. Среди гостей было и несколько «раичек», отчасти в бальных нарядах ввиду предстоящего после серьезного заседания веселого праздника в Благородном собрании; было бы и больше, кабы не совпадение с этим самым праздником. Но где же сам референт? Ждем четверть часа, затем еще четверть; живет он в Царском Селе – уж не к поезду ли опоздал?.. Предоставляем слово второму референту, в надежде что во время его коротенького доклада первый подоспеет… Нет, он все не показывается; зато во время чтения сторож вызывает секретаря к телефону, секретарь подает председателю какую-то записку; всё это делается тихо и по возможности незаметно, чтобы не мешать докладчику, но, разумеется, все это тем не менее замечается и усиливает напряженность ожидания. Доклад кончен; председатель читает доставленную ему записку: «В Царскосельском вокзале внезапно скончался неизвестный господин, который, будучи доставлен в Обуховскую больницу, был опознан как И. Ф. Анненский. Ошибка возможна, но маловероятна».
Заседание закрывается.
Быстрые, полусознательные прощания; в голове какой-то тупой протест, бесконечно повторяемое «невозможно, невозможно!»; давление абсурда, усугубляемое тяжелым морозом петербургской зимней ночи; и больше ничего, на всем длинном пути, кроме этой внутренней и внешней тяжести, этого внутреннего и внешнего холода. И вот оно, наконец, это мрачное здание Обуховской больницы, тяжелое и холодное, как и все прочее. Голые стены приемного покоя, деревянные скамьи; и на одной из них… Нет, теперь ошибка уже невозможна.
Но что это за чудное, ласковое, одухотворенное лицо! Как оно приковывает взор, как побеждает тяжесть и холод всей обстановки этого унылого участка смерти! Не верится, что он умер; он как бы спит, и притом здоровым, спокойным сном. Так и видно, что последняя минута этой прекрасной