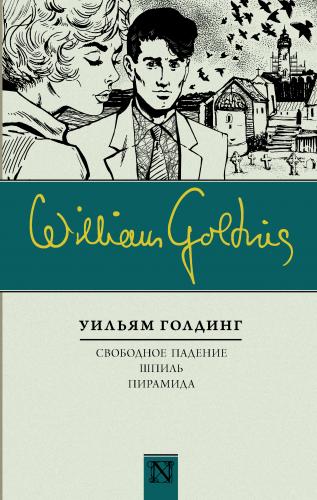Отца своего я не знал, да и матушка, как мне думается, тоже его никогда не знала. Не могу, конечно, быть полностью уверен, но все ж я склонен полагать, что она его не знала – во всяком случае, в социальном отношении, если только мы не вычленим это слово из всех полезных смыслов. Половина моей родословной до того туманна и непроницаема, что я редко утруждаюсь беспокоиться на этот счет. Я существую. Вот эти пожелтевшие от табака пальцы, что нерешительно зависли над пишущей машинкой, эта тяжесть в кресле удостоверяют мне встречу двух людей, одним из которых была моя мать. Интересно, что думал обо мне второй из них? И что за даты я отмечаю? В 1917-м были победы и поражения, была революция. На фоне таких событий одним мелким ублюдком больше или меньше… А тот-то, другой, был ли он солдатом, которого потом разметало на куски? Или, может, он выжил и ходит, развивается, забывает? А что, он вполне мог бы гордиться мною и моей цветущей репутацией – если б знал. Не исключено, что я с ним даже пересекался, лицом к непроницаемому лицу. Но без узнавания. Я буду знать о нем столь же мало, сколько знает ветер, переворачивающий страницы книги на садовой ограде, невежественный ветер, способный расшифровать цепочки черных заклепок с таким же успехом, с которым мы, люди, умеем читать лица совершеннейших незнакомцев.
И все ж меня завели. Я тикаю. Существую. Я замер в восемнадцати дюймах над черными заклепками, которые ты читаешь; я занимаю твое место, я заперт в костяной коробке и пытаюсь приклепать самого себя к белой бумаге. Нас соединяют эти заклепки, но, невзирая на всю страстность, мы не разделяем между собой ничего, кроме чувства разобщенности. Так зачем мне думать об отце? Чем он важен?
Зато мать – совсем другое дело. Был у нее какой-то секрет, ведомый, пожалуй, лишь коровам или кошке на ковре, некое качество, делавшее ее независимой от чужих суждений. Она довольствовалась простым контактом. В этом была ее жизнь. Мои успехи ее ничуть не впечатляли. Полное безразличие. В моем альбоме картинок она закончена и окончательна, как точка в конце фразы.
В досужую минуту, когда на меня вдруг накатывало, я расспрашивал ее об отце, хотя в этом любопытстве не было крайней нужды. Пожалуй, если бы я настоял, она была бы поточней в своих рассказах, но зачем мне это надо? Жизненного пространства вокруг ее передника вполне хватало. Были мальчишки, знавшие своих отцов, так же как и мальчишки, носившие башмаки изо дня в день. Были сверкающие игрушки, машины, места, где люди ели изящно, да только эти картинки на моей стене столь же от меня далеки, как и Марс. Настоящий отец стал бы немыслимой прибавкой. Так что свои расспросы я приберегал к раннему вечеру, пока не открылось наше «Светило», или же