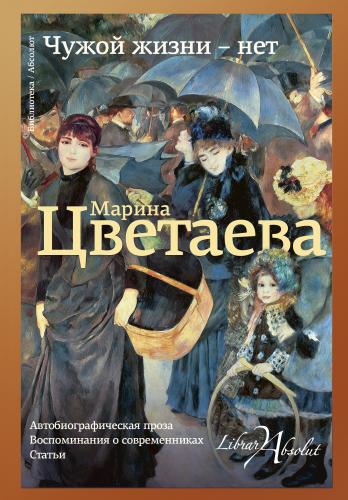Не верь мужчинам, мой дружок!
Ты весела, ты все хохочешь,
В головке бродит ветерок,
Но, если плакать ты не хочешь –
Не верь мужчинам, мой дружок!
Пускай они тебе клянутся,
Пускай грозят взвести курок
Ну, хоть на части разорвутся, –
Не верь мужчинам, мой дружок!
А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который ввек ты не забудешь, –
Не верь мужчинам, мой дружок!
Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то, ни другое мне на роду написано не было – то и урок не привился, и я, как, впрочем, и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, – аминь – в «неверие» не поверила, встречному – верила.
Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.
Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное – те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон»). Вечный сторожевой окрик одной сестры – другой (одной доверчивей другой!) – «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором – уж не знаю, чьей рукой:
Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!
(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятьсотых годов.)
Однажды, тогда же – мне было семь лет – Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» – «Ну, конечно, черт возьми!» – «Но зачем же “черт возьми”?» – с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние «лопаты» в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство: мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя – такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей – пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. «А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!» Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он – такой добрый со мной, такой нежный… И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чуя и стараясь рассмешить: «Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, неулыба!» – тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и – последним голосом: «Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете…» Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество,