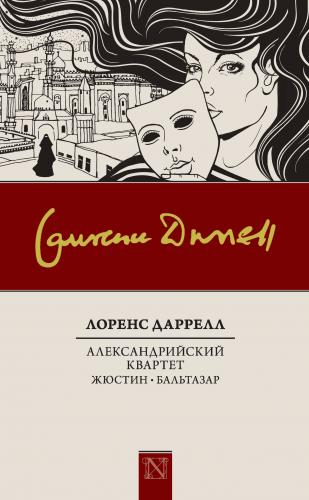Я оделся, занял у Персуордена немного денег и по пути на почту – я шел отправить какое-то письмо – снова увидел Мелиссу, одиноко сидящую в уголке кофейни, подперев подбородок руками. Шляпка и сумочка лежали рядом, она пристально глядела в кофейную чашку – отрешенно, задумчиво и удивленно. Я круто повернул, зашел в кофейню и сел рядом. Я пришел, сказал я, извиниться за столь отвратительный прием, но дело в том… и я стал описывать обстоятельства, в которых оказался, ничего не пытаясь приукрасить. Сломанный кипятильник, уход Хамида, мой летний костюм. Как только я принялся перечислять горести, меня одолевшие, они стали казаться мне отчасти даже забавными; я слегка сместил угол зрения и продолжил свою повесть со скорбью и гневом, и она рассмеялась – мне редко доводилось слышать смех настолько восхитительный. По поводу долгов я врал с чистой совестью, хотя с той самой скандальной ночи Персуорден всегда и безо всяких колебаний готов был при случае поверить мне в долг. И в довершение всех бед, сказал я, она появилась как раз тогда, когда я едва-едва оправился от несерьезного, но чрезвычайно пакостного венерического заболевания – прямого результата заботливости Помбаля, – вне всякого сомнения подхваченного от одной из предусмотрительно оставленных им в наследство сириек. Это тоже была неправда, но я уже не мог остановиться. Меня привела в ужас, сказал я, одна только мысль о том, что дело может дойти до постели. Тут она протянула руку и опустила ее на мою ладонь, все еще смеясь, сморщив нос: смеялась она так искренне, так легко и просто, что прямо там и тогда я решил в нее влюбиться.
Мы бродили вдоль моря в тот день, и разговоры наши были полны осколков жизней, прожитых без плана, без цели, без архитектуры. Наши вкусы не совпали ни разу, о чем бы ни зашла речь; у нас были совершенно разные характеры и наклонности, но мы чувствовали в волшебной простоте этой дружбы нечто давно нам обещанное. И еще я люблю вспоминать тот первый поцелуй у моря и ветер, перебиравший пальцами локоны на мраморных ее висках, – поцелуй, раздробленный смехом, напавшим на нее при воспоминании о перенесенных мною тяготах. Хороший символ для того, что было между нами, – страсть без напряжения, окрашенная юмором: любовь милосердная.
Два вопроса, приставать с которыми к Жюстин было совершенно бессмысленно: ее возраст, ее происхождение. Никто – сдается мне, и Нессим в том числе – не мог сказать с полной уверенностью, что он знает о ней все. Даже городской оракул Мнемджян в виде исключения разводил руками, хотя он многое мог бы порассказать об ее недавних любовных похождениях. Он говорил о ней и щурил фиолетовые глаза, а потом как один из возможных вариантов осторожно предлагал такие сведения: она родилась в перенаселенном квартале Аттарин в бедной еврейской семье, успевшей с тех пор уехать в Салоники. На дневники здесь тоже надежда слабая, ибо они лишены ключей – имен, дат, мест, – там по большей части плещут буйные фонтаны фантазии,