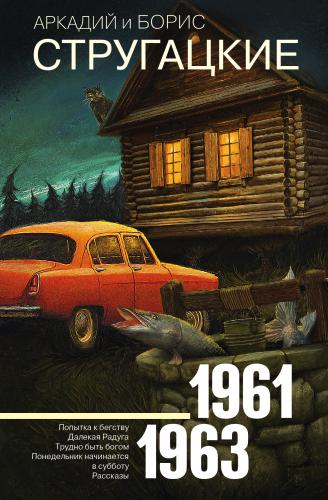Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там, внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нуль-физиками планеты, пока он не выскажет ведущим нуль-физикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нуль-физики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты.
Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди – и мужчины и женщины – смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот т а к. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше.
Он рискнул.
– Пожалуй, ты прав, – озабоченно заявил он. – Однако все это следует тщательно продумать.
Патрик опустил глаза.
– Продумай, – сказал он, неловко улыбаясь. – И не забудь, пожалуйста, проверить ульмотроны.
Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было. Но сказанная глупость – всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек: все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально, все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Ничепоренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляров, вы сложены как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно не совместимы с наукой…»
Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке.
– Да, – сказал он вслух. – Это я могу. Патрик не может. Ничепоренко тоже не может. Один я могу.
Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет наконец эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова и вдруг увижу в каше логико-математических