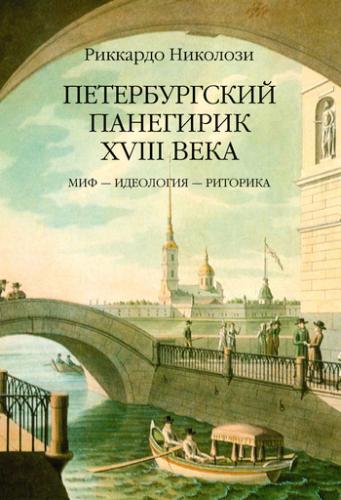В эпоху русского классицизма место похвальной речи заняла торжественная ода, ставшая основным жанром петербургского панегирика. В текстах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др., вплоть до Г. Р. Державина[57], происходит сдвиг в изображении Петербурга: основное внимание уделяется теперь не легитимации его как царской резиденции и второй столицы, а в первую очередь его репрезентации как панегирической арены важных событий в придворной и политической жизни России. Наряду с петербургским панегириком появляется теперь и панегирическое изображение Москвы, «энтропизированной» в раннем панегирике, а теперь ресемиотизированной. В этом контексте мифопоэтический субстрат петербургского панегирика обретает новое измерение: параллельно с концептуализацией основания города как петровской космогонии с ее пресуществлением хаоса в космос появляется намек на возможность или опасность обратимости этого процесса.
К концу XVIII в. петербургский панегирик становится по преимуществу автореферентной системой: топика, разработанная в ходе столетия, предельно амплифицируется авторами последних панегириков – на место освоения чужих городских топик приходит aemulatio собственно петербургской топики, осложнение (Uberbietung) избитых мотивов и речевых шаблонов. Авторы этих панегириков ориентируются на своего хрестоматийного автора, а именно – Ломоносова, петербургская поэзия которого заменила классические образцы городских панегириков (Аристида, Клавдиана).
Петербургский панегирик завершается поэзией С. С. Боброва, которая, как и поэзия Д. И. Хвостова, подводит итог целой традиции и маньеристически ее осложняет[58]. Его поэзия была своего рода «имплозией» петербургского панегирика, который уже не мог далее разрабатываться, а мог лишь быть «перериторизован» на формальном уровне: в силу своего в основном утвердительного характера панегирик был не способен участвовать в начавшейся в начале XIX века критической переоценке Петербурга. На фоне ухода панегирика петербургская поэзия Боброва кажется пародийной кульминацией традиции, которой уже в 20-е гг. суждено было уступить место постпанегирической петербургской литературе.
Постпанегирическая петербургская литература, образуемая такими текстами, как «Прогулка в академию художеств» К. Н. Батюшкова (1814), «Петербург» П. А. Вяземского (1818), «Петроград» С. П. Шевырева (1829) и, прежде всего, «Медный всадник» А. С. Пушкина, выводит петербургский текст за рамки панегирического жанра: приевшиеся элементы панегирика теперь деконтекстуализируются и «пересаживаются» в новый философский, историософский и литературный контекст. В силу этой