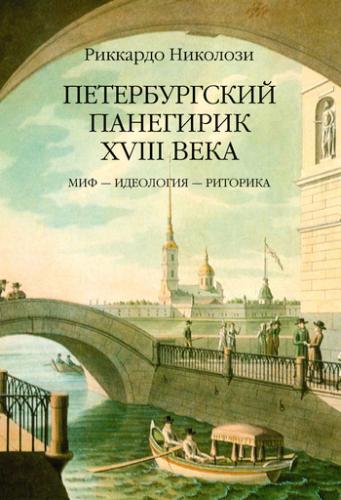Панегирик имеет преимущественно подтвердительно-описательный и одновременно (в бинарных категориях) оценочный характер. Это, однако, выражает лишь его базисную структуру: в дальнейшем будет показано, что панегирик выполняет зачастую более дифференцированные риторико-коммуникативные функции. Ведь эпидейктическая речь, несмотря на свою «а-дискурсивность», то есть сосредоточенность на предметах, «не нуждающихся в дискурсивном пояснении», не монофункциональна – она не только утвердительна или репрезентативна, но может носить, например, и прескриптивный или даже «субверсивный» характер [Kopperschmidt 1999: 14].
Обыкновенно панегирик – это стихотворение «на случай» (ad hoc, окказиональная поэзия), причем под «стихотворением» здесь понимается как мерная речь, так и проза. В этом ее качестве панегирическую литературу отличают три существенных признака: окказиональность, репрезентативность и функциональность[31]. Будучи литературной формой, возникающей, как правило, внутри придворного коллектива, панегирик отражает репрезентативные для этого коллектива официальные события (occasiones), которые в нем торжественно изображаются и прославляются. Достойными прославления поводами могут быть, в частности, важные события в жизни монарха и членов царской семьи (коронация, венчание, рождение, кончина и т. д.) или же победа в войне, заключение мира, посещение монархом какого-либо города и т. д. Панегирическое восхваление таких событий не просто одномоментно, оно регулярно повторяется (день коронации, день рождения, день смерти), подтверждая тем самым единодушное состояние двора (радость или скорбь), которое не должно прерываться, при этом двор метонимически олицетворяет все общество[32].
Следующий признак панегирика – репрезентативность – ни в коей мере не сводится лишь к пышной, бесцельной саморепрезентации двора, преследующей чисто эстетические цели. Эпидейктическое красноречие – это не просто риторическое «искусство ради искусства», как его часто определяют со ссылкой на Аристотеля[33]. Аристотель, предпринявший в своей «Риторике» первый опыт теоретической систематизации панегирика, отмечал, что эпидейктическое красноречие рассчитано на «наслаждающегося», а не «оценивающего» реципиента, которому важен главным образом стиль речи, а не ее содержание[34]. На основании этого эпидейктическое красноречие часто понималось исключительно как демонстрация ораторского мастерства[35]. Такое восприятие, однако, не учитывает значения функциональности панегирика, коренящейся уже в самом факте символического изображения власти. По замечанию Б. Хамбша, восхваление монарха и панегирик вообще изображают «в типизированной форме политические и моральные представления о норме как уже реализованные»; они служат «церемониальному приходу к власти или ее утверждению» [Hambsch 1996: 1379].
Придворный порядок, или придворная «истина», которая должна подтверждаться в панегирике как риторическая