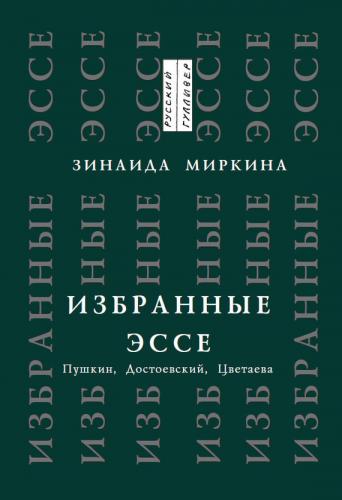Кириллов – благороднейший из безумцев. Он видит высший пункт своеволия не в убийстве, а в самоубийстве. И конечно, ему не легко убить себя, почти так же трудно, как Раскольникову – Алену Ивановну и Лизавету. Но он, как и Раскольников, и Великий инквизитор, убедил себя, что делает свое страшное дело во имя добра, во имя единственно возможного добра на Земле. Это предел, до которого доводят самоубийственные возможности логики; точка, на которой надо сказать: absurdum est12, – и вернуться к источникам жизни. Но, как все безумцы, Кириллов не замечает своего безумия, не видит, что давно уже шагает по призрачному царству утопии. Откуда берется вера в то, что в следующем же поколении люди переродятся физически? Только от желания, от внутренней потребности во внешнем чуде. Решительно так же, как вера Н.Ф. Федорова в возможность собрать по атомам и возродить давно истлевших покойников.
Утопия – тот самый хрустальный дворец, которому хотел высунуть язык подпольный человек. Хрустальный дворец, другое имя которому – муравейник. Плоское изобретение человеческое, противостоящее бездонной красоте и потрясающей высоте божественного замысла. Теснота вместо простора. Дело вместо Творчества. Самоубийство вместо жизни вечной.
Глава 8
Логика и страх Божий
«Клянусь вам, господа, что слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь… Я крепко убежден, что не только много сознания, но даже и всякое сознание – болезнь».
Так говорит подпольный человек. Вторая его тирада не поддается обсуждению: если «всякое сознание болезнь», мы теряем почву для анализа: тогда всем нам место в больнице. Здесь перед нами гипербола, буквально нелепая, но важная, как способ подчеркнуть значение первого высказывания.