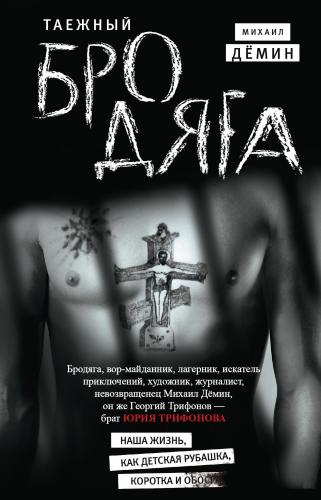– Ты бы, Наташка, помолчала, когда говорят старшие, – проворчал Ягудас.
Он покосился на дочь. Отвел было взгляд. И потом опять – угрюмо, быстро – глянул на нее из-под седых бровей. Видимо, он хотел еще что-то добавить, но сдержался. Тряхнул щеками. И, вынув изо рта мундштук, принялся его прочищать.
– В общем, поживем – увидим, – сказала мать. – Главное, ты вернулся. – И снова лицо ее дрогнуло в беззвучном плаче. – Живой, невредимый, это ведь чудо! – И опять она осветилась улыбкой. – Я уж было отпела тебя, а ты – вот он!
– Что ж, закалывайте тельца, – подмигнул Ягудас. – Знаете притчу о блудном сыне?
– Папа, – объявила, вставая, Наташа, – а ведь у нас есть жареная телятина! Осталась на кухне – с утра… Я подогрею?
Глава 2. Блудный сын (продолжение)
Мы просидели – за поздним ужином, за разговорами – почти всю ночь. Когда мать простилась и ушла, близилось уже утро. Наконец-то я очутился в старой своей, запущенной комнате; чувствовалось, что здесь давно уже никто не жил и не прибирался. На всем лежал слой пыли, окна были мутны, занавеси в пестрых разводьях плесени.
И вот, удивительное дело, тусклый этот вид запустения никак не расстроил меня, нет, наоборот – он словно бы наполнил мне душу теплом.
Все здесь, в сущности, сохранилось нетронутым – таким, как я оставил, покидая когда-то Москву. Если кто и ждал меня все эти годы, то – не люди, а вещи. Вот этот диван – он помнил мои сны. Вот этот стол – он знал мои привычки; знал, как я сижу, облокачиваюсь, пишу… Вещи остались в неприкосновенности, сохранили мне верность – и дождались меня, дождались! Я долго не мог уснуть; бродил по комнате, разглядывал ее, рылся в шкафу и в ящиках стола – перебирал лежалые бумаги.
В одном из ящиков я обнаружил пожелтевшую, потрепанную фотокарточку отца. Он стоял в заломленной папахе, с полевым биноклем на груди, – держал под уздцы оседланную лошадь и упирался другой рукою в наборную рукоять казачьей шашки. Снимок был давний, времен Гражданской войны.
Отец стоял вполоборота и, казалось, смотрел на меня, и лицо у него было суровое, строгое. И мне почему-то вспомнился случай… Было это давно, в Кратове, в начале тридцатых годов. Тогда ему случайно попались в руки первые, детские мои сочинения. Стишки были вздорные, подражательные; я впервые тогда познакомился с российскими символистами, ничего не понял, естественно, но сразу же заразился демонизмом и многозначительностью. Там были такие, например, строки: «Я шел сюда, чтоб выше быть всех остальных людей. Я никогда не мог забыть тех, славы полных, дней…» Отец отнесся к моим опытам странно. Не восхитился (на что я втайне уповал) и не отругал меня (чего я все же инстинктивно побаивался). Он вообще ничего не сказал – задумался и подошел к окну, и так стоял какое-то время. И выражение его лица было таким же точно, как на этом фото… О чем он думал? Что его так огорчило? Может быть – нелепое, несколько параноическое направление моих мыслей? А может, он просто предвидел, предугадывал мою нынешнюю судьбу.