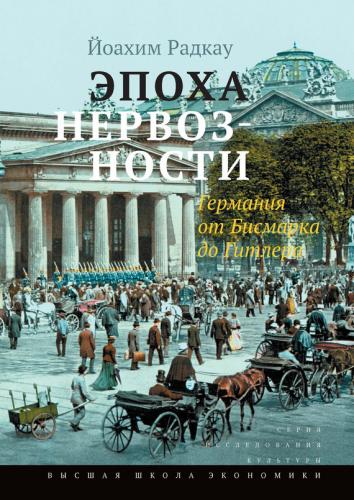Однако многое в этой картине не сходится. Внимание к нервам и их расстройству развивалось ни в коем случае не против просвещения, а в согласии с ним. И было оно вовсе не особым путем Германии, а черпало вдохновение из Англии и Франции. Некоторые пассажи из «Исповеди» Руссо (1781), самом знаменитом французском самоанализе столетия, гораздо ближе к тому, что сегодня понимается под «нервозностью», чем любые немецкие автобиографии того времени. Руссо уже сетует на то, что граждане в вечной спешке своей перетруждаются до смерти (см. примеч. 35), тогда как в Германии той эпохи подобных признаний еще поискать. Кроме того, увлекаясь жалобами на нервы, датированными рубежом XVIII–XIX веков, нельзя забывать об их количественной несопоставимости с целым массивом свидетельств, оставленных на рубеже веков XIX–XX.
Тем не менее целый ряд общих условий, благодаря которым с 1880 года начала складываться карьера неврастении, существовал еще за 100 лет до этой даты. Уже в XVIII веке зарождается культура гигиены. Здоровье стало делом общественным – здоровье в самом широком смысле, включая благополучие души и нервов. В размышлениях о том, что поддерживает целостность человека, внимание направлялось на нервы. Поскольку ни учение о нервах, ни учение о душе еще не подверглись специализации, и психосоматическое мышление было еще само собой разумеющимся, то концепт неврастении не противоречил никакой господствующей доктрине. Напротив, предположение, что внешние раздражители и растревоженные эмоции могут привести в смятение дух и тело, не доставляло той эпохе никаких теоретических сложностей. Лежавшая в основе более поздних страхов перед неврастенией уверенность в ограниченности жизненной силы и необходимости правильно ее расходовать, в 1800 году уже существовала. И уже тогда люди осознавали, что впереди их ждет бурное переломное время, а потому были готовы к новым состояниям души (см. примеч. 51).
Уже Гуфеланд упоминает «ту несчастную деловитость, которая овладела теперь значительной частью рода человеческого» как элемент, сокращающий срок жизни, поскольку она «ужасающим образом» ускоряет «самопотребление» человека. Как следует из крылатого выражения Бенджамина Франклина «время – деньги», уже вторая половина XVIII века характеризовалась стремлением к экономии времени; предпосылка для модерной суеты и спешки в принципе уже была. Стимуляторы той эпохи – кофе и чай, противодействовавшие естественному чувству усталости, также распространялись и бурно обсуждались в XVIII веке. Знаменитый голландский врач Бонтеку[39] рекомендовал своим пациентам выпивать до 200 чашек чаю ежедневно, что в целом шло на «ура», пока его не разоблачили как наемника Ост-Индской компании. В 1788 году один немецкий врач писал,