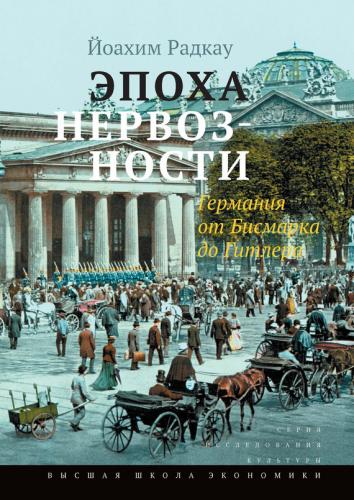В романе Алисы Беренд «Шпрееман и Ко» (1916) стареющий предприниматель Шпрееман не понимал, зачем «молодым людям вечно надобно все омедицинивать». «Больше всего он сетовал на придуманную нервозность… То, что раньше называли нетерпением или вспыльчивостью, теперь элегантно именуют нервозностью». Фрейд, напротив, в одной из лекций 1917 года замечает, что обыкновенно и, по его мнению, ошибочно «употребляют слова – “нервный” и “боязливый” одно вместо другого, как будто бы они имеют одно и то же значение»[31] (см. примеч. 26). Высокая привлекательность слова nervös кроется не в последнюю очередь в его многозначности, ведь из него можно столько всего сделать. «Я нервничаю». «Ты действуешь мне на нервы». «Не будь таким нервным!» Никакое другое расстройство не способно вызвать такой эффект пинг-понга. Называя кого-то «нервным», можно избежать таких унизительных слов, как «несносный» или «малодушный», оставить открытым вопрос о «трусости» или «вздорности». Но главное – создать ауру чувствительной близости и подспудных намеков. «Нервы» могли указывать как на мозг, так и на гениталии: понятие деликатно оставляло висеть в воздухе обе возможности. В спорах между материалистами и спиритуалистами, соматиками и психиками понятие «нервы» с его психосоматическим семантическим потенциалом могли использовать все стороны. Макс Вебер старался тщательно отделить нервы от психики, когда в 1899 году был вынужден отказаться от чтения курса лекций: «неспособность говорить – явление чисто физическое, нервы отказывают, и при одном взгляде на конспекты лекций я просто лишаюсь чувств»[32](см. примеч. 27). Но в то же время на основе изучения людей «нервозных» развивался психоанализ.
То и дело «нервы» оказывались своего рода шифром. Швейцарский невролог и психолог Поль Дюбуа