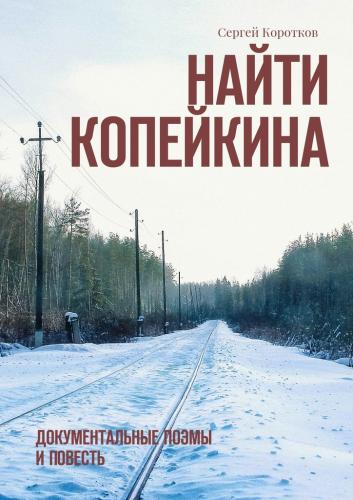Отец, насидевшись в одиночках, бараках, набитых осужденными, истосковался по своему просторному дому. В передней весь угол занимал иконостас. Иконы были старые, в больших киотах. Про одну из них отец говорил радостно: «Это крёстной моей икона. Из монастыря. Старой веры. Видишь – крест восьмиконечный». Я во все глаза пялился на икону. Но для меня это было что-то тёмное, непонятное. Одним словом – «бабкино хозяйство».
Но я ни разу не видел, чтобы она молилась здесь, в передней, на эти иконы. У неё в комнате, как раз напротив русской печки, висели в углу две небольшие иконы: Казанская Божья Матерь и Гурий, Самон и Авив. Они нынче у меня в красном углу – на них молюсь вслед за своими ушедшими.
Однажды, будучи уже тридцатилетним, я спросил свою бабушку Татьяну Сергеевну: «А когда замуж выходила, благословляли вас Божьей Матерью?» «Нет, – отвечала. – Гурием благословляли. Это для умножения богатства, и чтобы мора не было ни у лошадей, ни у коров».
На старинный иконостас своеобразно молился отец. Причём, делал он это, изрядно набравшись винища. И рассказывая очередную тюремную историю, как всегда, к слову восклицал: «Нет, я в Бога верю! Я, когда в доме Васькова под расстрелом сидел, так молился – ничего, сколько надо отсижу, Господи, лишь бы живым домой вернуться. А там мне мать сварит чугунок картошки, селёдочку сварганит с лучком и бутылку поставит. Отпраздную, а там – забирай!»
Так он и «праздновал» изо дня в день. А когда уж совсем ему невмоготу становилось от воспоминаний, он вдруг всхлипывал: «Господи, Господи!» Падал на колени и полз под иконостас, отшвыривая стулья. Мне было смешно, но и грустно видеть это.
Отец рычал: «За что? За что?» Иконы молчали. Тогда он вставал, и вид у него был диковатый. Остатки волос прилипали к большой лысине. Глаза пьяные и мятежные останавливались на бутылке портвейна, и он успокаивался.
Сергей Коротков с отцом Иваном Петровичем Коротковым (Гугой), 1960
Пасха
Пасха начиналась со страстной пятницы. Бабушка месила тесто, ставила его под полотенцем в тепло, чтобы взошло. Мыла изюм. А топлёное масло, что сама она умела делать – моя кулацкая бабуля – это масло золотилось в стеклянной банке, как солнце. Топилась русская печь, и там, внутри, ещё одно солнце светило красноватым светом. Куличи выходили знатные, знаменитые на всю деревню. И делалось всё это для того, чтобы в Пасхальную ночь взошло над миром Солнце Христа, и оно всходило, и люди радостно восклицали: «Христос воскресе!» Им отвечали ещё радостнее: «Воистину воскресе!», и никакая советская пропаганда не сумела истребить в крестьянах этого чувства праздника.
До семи лет я безотчётно верил бабушке, и когда мы приступали к разговению, она снимала специальную деревянную формочку с творожной Пасхи, и на ней отпечатывались буквы ХВ. И я ел эти буквы, и сердце моё ликовало. А моё крашеное