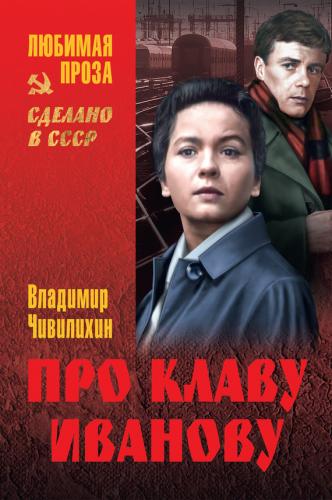«Карахтер не дозволяет к нему».
– Ишь ты! Характер!.. А чего тебе писать-то?
«По собственному желанию. Я все-таки не какое-нибудь там фуфло, а рабочий человек».
– Ты – рабочий человек?! – вдруг зашумел Глухарь и поднялся за столом. Спирин уже приготовился удирать, но старик сел. – Дерьмо ты! А еще хочешь рабочую характеристику? Нет, врешь!
«Ладно. Все. Пиши, что хотишь».
– Правду?
Петька махнул рукой. Глухарь вырвал из блокнота листок, подумал и быстро что-то написал.
– А к инженеру все же зайдем. Эх, паря, какая у тебя мякина в башке!..
Жердей усадил посетителей, бросил взгляд на листок и вдруг расхохотался.
– Он хотел правду, – проговорил Глухарь.
Инженер снова и снова перечитывал характеристику, смеялся, закрывая узкими ладонями лицо. Наконец он протянул листок Спирину.
– На машинку, – решительно сказал он и добавил: – Петр Илларионович!
Петька боязливо взял листок, зашевелил губами. Потом сквозь зубы выругался. А они сидели не шевелясь, смотрели на него – один сострадательно, другой насмешливо. Парень свирепо перетер бумагу в ладонях, швырнул ее под ноги и пинком отворил дверь кабинета. В дверях-то мы с ним и встретились. Я придумал новую оправку и спешил, чтоб скорей показать ее инженеру, посоветоваться. Мы столкнулись со Спириным лбами, и Петька пробормотал:
– Ходют тут всякие!..
В кабинете засмеялись, а я, потирая шишку на голове, сказал:
– Черт! Будто чугунный у него лоб… Вот оправку новую сообразил.
– Показывайте, – протянул руку Жердей. Все еще улыбаясь, он занялся оправкой, а я спросил у Глухаря, больше глазами:
– Что с этим-то, с «португальцем»?
Глухарь глазами же показал мне на смятую бумажку. Я подобрал ее. Там было написано: «Характеристика на Спирина Петра Илларионовича. Пьяница и прогульщик, однако, если захочет, работает, как лошадь, а сильно захочет, то и человеком станет».
– А как мне себя вести? – робко, стесненно спросила Клава у пожилой больничной медсестры.
– Как вела, так и веди, – хмуро ответила та и ушла, оставив ее одну.
Потом уже, когда началось по-настоящему, сестра совала ей в рот сладкий порошок, а Клава зажимала губы и плаксиво выкрикивала:
– Не хочу я сахару! Не хочу!
– Глупая! – урезонивала ее сестра. – Это же глюкоза! Это же не тебе, это же ему. Вот глупая…
Увезли Клаву из общежития раньше, чем положено, – в феврале. Отстрадала девка незнаемой бабьей болью, откричала нежданным чужим голосом, отлила святые сладкие слезы.
Сын.
По улицам поселка догуливали бураны, и Клава просыпалась от мягкого шуршанья – под окнами скребли деревянными лопатами. Было тепло за двойными рамами и хорошо наблюдать, как обматывает белыми нитями голую вершину высокого тополя, обматывает и никак не может обмотать. А снег у самого стекла, крупный и чистый, тихо плыл почему-то вверх, все