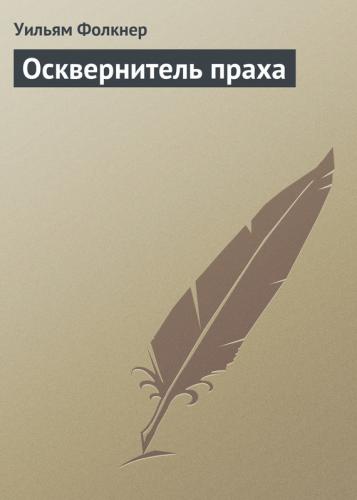– Похоже на то, – сказал Лукас. – Потому я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать?
– Я? – сказал дядя. – Ничего. Я не Гаури. И даже не Четвертый участок.
Опять все так же медленно, с трудом Лукас нагнулся и поглядел под ноги, потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак, снова сел прямо и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя; тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех Гаури, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное.
– Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся, – сказал он. – Я о законе спрашиваю. Ведь вы наш присяжный адвокат?
– А-а! – сказал дядя. – Так это районный прокурор, он пошлет тебя на виселицу или упрячет в Парчмен, а не я.
Лукас все продолжал мигать – не часто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе и не смотрит на дядю, и, по-видимому, уже секунды две-три.
– Понятно, – сказал Лукас. – Значит, вы можете взять на себя мое дело.
– Твое дело? Защищать тебя на суде?
– Я вам заплачу, – сказал Лукас. – Насчет этого можете не беспокоиться.
– Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину, – сказал дядя.
И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой:
– Не про суд речь. Мы еще до него не дошли. – И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову, глядит на него снизу вверх из-под седых, нависших, косматых бровей пронзительным, пристальным, себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал: – Я хочу нанять кого-нибудь… – и остановился. И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целое блюдо домашних булочек для всех ребятишек с улицы, и вот как-то летом (ему было лет семь-восемь, не больше) она научила их всех играть в пятьсот; в жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне