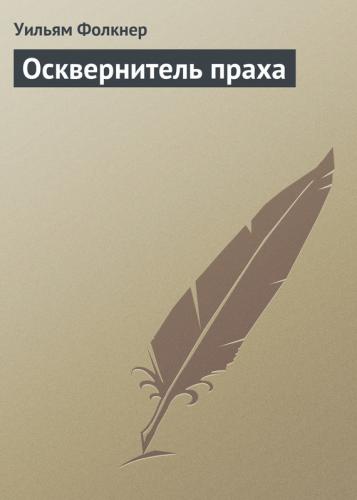– Поглядите на них, – сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом. – Смирные, как овечки, чертовы дети, а ведь ни один не спит. А что их винить, когда эта разъяренная толпа белых, того и гляди, ввалится сюда в полночь с револьверами да с жестянками бензина. Идемте, – сказал он, повернулся и пошел. Тут же рядом, в сетке, была дверь, закрытая не на замок, а на крючок – так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном, но тюремщик прошел мимо нее.
– Вы что, в камеру его поместили? – спросил дядя.
– Хэмптон приказал, – ответил через плечо тюремщик. – Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут, как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь. Ну, одеяла-то я все-таки с коек убрал.
– Может, потому, что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать? – сказал дядя.
– Ха-ха, – отозвался тюремщик каким-то неестественным, тонким, грубым и невеселым смешком. – Ха-ха-ха-ха-ха…
А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что ни делает человек, ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство; сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет, и, однако, никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством; дверь, на этот раз по-современному заделанная стальной решеткой с внутренним запором величиной чуть ли не с дамскую сумку, – тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки и тут же повернулся и ушел, и звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих по коридору, слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице, – а за ней камера, освещенная другой такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой под проволочной сеткой, ввинченной в потолок, – чуть побольше чуланчика для метлы, в сущности, в ней только и умещались две койки друг над другом у стены, и с обеих были сняты не только одеяла,