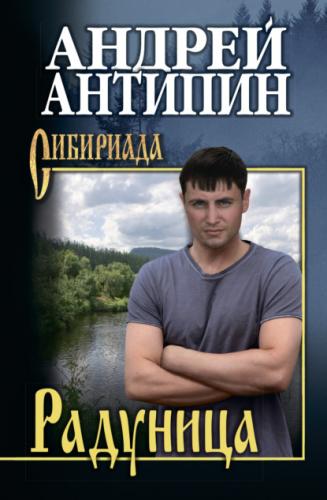– Расшиперишься тут! Моя, вон, в погреб полезла вчера… Я, главно, всё лестницу починить собирался!
– Бессовестные! Все мужики на покосе, а оне…
– А они «катюшу» понужают! Скуснатища-а – во! – скаля зачифирённые зубы, большой комкастый Кеша Глыба, хозяин бобины, глухо, почти беззвучно смеётся; поднеся к губам заветный стопарь, опрокидывает в себя и долго – отрешённый – сидит с закрытыми глазами.
– Имеем право! У меня, главно, зуб ноет – всю щеку растарабанило…
– Душа у тебя, у па́длого, не ноет?! Картоха вся как есь зачи́черела! Чё исти зимой будешь?!
Все на мгновение замолкают.
– Мы небо размачиваем! – нагло заявляет Серёга и, кивнув мужикам, вынимает из травы ещё одну, срывает зубами чеку-заглушку из мягкой золотистой жести. – Размочим – и дождь пойдёт…
– Пойдёт-пойдёт! – поддакивают друзья-товарищи, деликатно подставляя стопки.
– Имя́ хоть в глаза сси – всё божья роса! – отмахивается бабка Аня.
– Нет, бабульки, – не унимается Лёнька, промакивая рукавом залитый тёплым угарным потом лоб. – Навострите локаторы, я вам щас анекдот расскажу! Короче, приходит старуха к гинекологу…
– Эх, поглянулось – хорошо! Давай-ка, батенька, ишо! – как чёрт из бутылки, наперёд Лёньки выскакивает совсем уже пьяный Шлёп-Нога.
Лёнька с сожалением, как на блаженного, смотрит на Кольку, который по-гусиному вытянул шею и, ожидая реакции, скорчил обмётанное колкой щетиной лицо.
– Но-о, сморшшился, как кобыльля срака! – устав перепираться, отворачиваются старухи.
Накупавшись, омыв иконы да сотворив с запинками молитву, сотканную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи устало тащатся домой, хлюпая мокрыми тряпичными тапочками. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками. Мужики – помалкивают.
А дождя всё нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня…
2
Банным теплом дышат в лицо мёртвые чабрец и волоснец. Пахнет смородиной и дымом. В воздухе сухая едкая пыль пошевеленного сена, и от неё спину и плечи жжёт так, словно уронили в крапиву. Я то разболокаюсь до трусов, то снова одеваюсь. В одежде жарко, а без неё и вовсе худо: оводы осаждают голое тело, розовыми волдырями вспухают укушенные места, в ранки сочится солёный пот, волдыри огнём горят и предательски чешутся. А тут ещё мошка даёт жизни. У меня все глаза красные – мошка то и дело забивается под воспалённые веки, и я тру глаза наслюнявленным пальцем или концом выпущенной рубахи. Да только всё без толку. Едва вынешь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже все три. До чего много мошки на Лене! Чуть ворохнёшь граблями вчерашнюю кошенину, как взвивается тучей и глазам делается темно. Хочется упасть ничком в траву и лежать, не шевелиться.
Но лежать нельзя – после обеда ставить сено. Его много сбрили в три литовки дед, отец и Мишка.
С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши